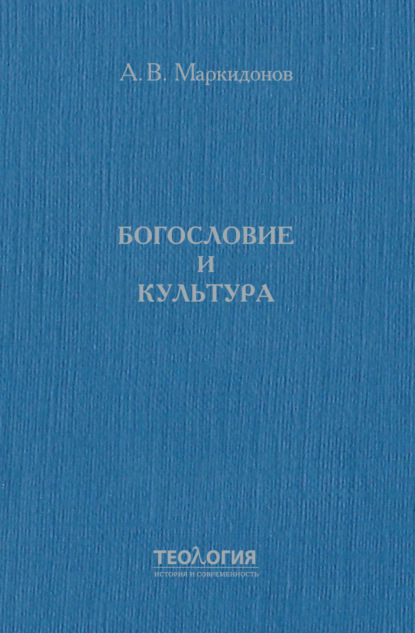По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Богословие и культура
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Студент» А. П. Чехова – рассказ, который сам автор расценивал как залог своего жизненного оптимизма[223 - Бунин И. А. Чехов // Чехов в воспоминаниях современников. М., 1954. С. 480.], построен по вполне ясному принципу смыслового диссонанса между началом и концом. Мотив жизненной безысходности, бесплодности и бессмысленности русской истории, жестко и безраздельно заявленный в начале рассказа, в своей универсальности как бы отсылает нас подспудно к суровой мудрости библейского Екклезиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Еккл 1:9) «…Студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета – все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой»[224 - Чехов А. П. Собрание сочинений: в 12 т. М., 1962. Т. 7. С. 375, 376.].
Связующий же смысл человеческой жизни и истории приоткрывается не в самой по себе внешней ее фактуре, а в доступе к событию, являющемуся источником связи и смысла как таковых – к евангельским судьбам любви, жертвы, верности или предательства. И самый этот доступ к «месту» свершения и смысла человеческой судьбы лежит опять-таки не во внешней истории самой по себе, а в области «изволений сердца человеческого» и открывается в меру сердечной отзывчивости человека на происходящее в истории евангельской. «Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему – к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра»[225 - Там же. С. 378.].
Чехов таким образом возводит смысловые линии рассказа к событию сакральному – и в этом качестве, являясь историческим по факту, оно превосходит историческое по смыслу, – но само это евангельское событие (отречения и раскаяния апостола Петра) он дает опосредованно – не в богослужебном действе, рассказанном от автора, а через пересказ студента. Тем самым, автор, одновременно, и дистанцируется от сакрального, сохраняя его в его несоизмеримости с повседневно-историческим, и вводит читателя в область доступа к сакральному и даже соучастия в нем, – дистанцируется приближая и приближает дистанцируясь.
Мало того, и самая сопричастность сакральному событию, – как некоему преданию истины, – сохраняет и даже несколько утрирует элементы остранения по отношению к нему. Он «думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы – ему было только двадцать два года, – и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла»[226 - Там же.]. Это срастворение мотивации духовного озарения возможному и, как возможность, чуть ли не выходящему на передний план естественно-психологическому содержанию (чувству «молодости, здоровья, силы – ему было только двадцать два года…») снова остраняет сакральное (и сопричастность ему) в его собственную, художественно-эстетически никак до конца не объемлемую, область.
Чтобы не сложилось впечатление, что остранение сакрального в данном случае просто идет на поводу секуляризирующегося сознания и может быть отождествлено с десакрализацией, обратимся к примеру из текста, заведомо свободного от какой бы то ни было секулярности. «Лавсаик» – повествовательный сборник своего рода житийных «клейм» (эпизодов) V века – рассказывает, в частности, о некоем Павле Простом, который, будучи уже немолодым, стал жертвой супружеской измены и, оставив мир, отправился в пустыню к прп. Антонию Великому. Но прежде чем быть принятым в сподвижники, Павел был подвергнут прп. Антонием строгим испытаниям. Описывая одно из них, рассказчик пишет: «Итак, поставив стол (после длительных утомительных трудов. – А. М.), вносит он хлебы. Положив паксамады по шести унций каждая, Антоний себе размочил одну (а были они черствы) и ему три. И затягивает Антоний псалом, который знал наизусть, и поет его двенадцать раз подряд, а после двенадцать раз повторяет молитву, чтобы испытать Павла; а тот знай себе молится с усердием»[227 - Аверинцев С. С. От берегов Босфора до берегов Евфрата. С. 206.]. Усердию же этому дается вдруг неожиданная в житийного рода тексте вполне буднично-психологическая и даже несколько ироничная мотивация: «Я думаю, что старик рад был бы скорпионов пасти, лишь бы не делить жизнь с распутною женою»[228 - Там же. Ср. подобный же новейший перевод этого места в издании: Иросанфион, или Новый рай. М., 2010. С. 67. Характерно, что в дореволюционных переводах, не стремящихся к предельной точности, а руководимых в ощутимой степени задачами дидактики (об этом несколько замечаний на с. 13, 21, 22 в названном издании), эта фраза с заниженной мотивацией отсутствует.]. Такая заниженная мотивация создает ощущение своего аксиологического несоответствия религиозному подвигу или какому-либо религиозному содержанию вообще. Подобного рода вещи являются наиболее целомудренным, свободным от субъективизма или дидактического морализма, подлинно аскетичным в этой своей свободе способом остранения религиозного начала, – соблюдение его в его собственной, никогда не растворимой до конца в чем бы то ни было человеческом, сокровенности.
Сакральность текста, его собственное положение, собственный тропос сохраняется в ткани человеческой естественности (и даже профанности) через актуализацию границ его несоответствия этой естественности и, с другой стороны, – через самое переживание ее инаковости сакральному началу.
Так в «Сталкере» Андрея Тарковского текст Апокалипсиса существенно остранен (проговорен как бы «косвенной», а не «прямой» речью) несколькими обстоятельствами своего ближайшего контекста. Во-первых, Апокалипсис озвучен голосом Жены Сталкера – из ее, в данном случае, внесюжетного и закадрового «места». Во-вторых, текст появляется сначала на грани, а затем и внутри сна, в который погружаются, кстати сказать, как раз на время чтения Апокалипсиса (время конечных свершений) все трое паломников. И, наконец, в-третьих, – пророческий текст озвучивается довольно беглым невыразительным чтением, в середине и конце внезапно прерываемым легким непродолжительным смехом, остраняющим (предельно дистанцирующим) сакральное содержание. Смех, как и другие выше указанные обстоятельства прочтения апокалиптического текста, продуцирует, обнажает и интонирует непостижимое расстояние между сакральным содержанием и каким бы то ни было естественно-человеческим, художественным, в данном случае, способом его высказывания, а значит и – присутствия в пространстве собственно человеческой экзистенции[229 - Таким же образом – легкой игровой инаковостью происходящего по отношению к серьезности произносимого словом – вплетен в ткань художественного произведения текст св. ап. Павла о любви в фильме «Андрей Рублев». Похожим образом «де-ритуализовано», растворено обыденной естественностью, опускание на колени перед молитвой Александра в «Жертвоприношении», что было нарочито оговорено в процессе съемки фильма.]. Само же это пространство представлено видеорядом: «Вода. В ней видны шприцы, монеты, картинки, бинт, автомат, листок календаря, рука Сталкера в воде»[230 - Текст сценария цитируется здесь и в дальнейшем по электронному ресурсу: http://www.lib.ru/STRUGACKIE/stalker.txt (дата обращения: 23.05.2022) с ненумерованными страницами.], – этим символико-эмблематическим реестром цивилизации.
Пробуждение Сталкера, как и, вскоре после, его спутников также сопровождается чтением сакрального текста, – на этот раз – одного из воскресных Евангелий (Лк 24:13–31). Воля к продолжению пути – к преодолению своей вовлеченности в круговую поруку зла и смерти, связавшую и подчинившую себе энергию человеческой культуры, – коренится в Евангельском событии, в превозмогающем время событии встречи с воскресшим Спасителем. Участники нашего паломничества внятно соотносятся с участниками путешествия в Эммаус, о котором рассказывает названное Евангелие: по мере чтения текста, просыпается сначала Писатель («глаза их были удержаны…» – Писатель просыпается, смотрит на Сталкера»), а затем и Профессор («Один из них, именем…» – Профессор лежит с открытыми глазами и внимательно смотрит на Сталкера).
Но этому отождествлению героев «Сталкера» с евангельскими путниками идет навстречу, но как бы и вопреки, все та же, остраняющая присутствие сакрального в профанном, тенденция актуализации несоответствия значимости текста и форм его высказывания. Евангельский текст произносится шопотом, что дважды, как условие прочтения, отмечено в сценарии, и – прямо «неразборчиво» или с пропуском – там, где должны были прозвучать названия и имена.
В рассуждении о музыке, с которым Сталкер обращается к проснувшимся спутникам, снова подчеркнута дистанция (несоответствие), в этом случае – между музыкой и действительностью. «Она и с действительностью-то менее всего связана, вернее, если и связана, то безыдейно, механически, пустым звуком». Музыка инакова по отношению к действительности подобно тому, как сакральное инаково и недоступно для любых, художественных в частности, усилий его оформления. «И тем не менее, – продолжает Сталкер, – музыка каким-то чудом проникает в самую душу! Что же резонирует в нас в ответ на приведенный к гармонии шум?»
Наладить естественную связь, установить непрерывное сообщение между музыкой и действительностью нельзя. Ввести музыку в действительность посредством самой действительности невозможно, но «каким-то чудом», предваряемым актуализацией инаковости, а не иллюзорным сглаживанием ее, – «музыка проникает в самую душу».
Так же и сакральное, не размываемое сокращением дистанции от него, а напротив – усилиями «косвенной речи» – в этой дистанцированности утверждаемое, – «проникает в самую душу», делает нас участниками священной истории.
Именно так обнаруживает себя логика художественного этоса Андрея Тарковского в ее отношении к сакральному началу: приобщение этому началу или включение его в контекст человеческой естественности сопровождается, одновременно, дистанцированием от исходных (культовых) форм его манифестации – в профанном оно присутствует как бы анонимно. Сокращение дистанции, в данном случае, не приближало бы нас к сакральному, а только наращивало бы тенденцию к его обмирщению и тем самым – инверсии. Примеры подобного, сокращающего или же вовсе элиминирующего дистанцию, остранения (а с этим, надо заметить, и связано первичное значение названного понятия) будут приведены нами позднее.
Прежде того, надо отметить, что не только сакральное как таковое, но и сокровенно человеческое (в этой своей сокровенности сопричастное или соотносимое святыне) нередко обнаруживает себя в художественном тексте остраненно – как бы косвенной речью, – сопутствующей святыне сокровенного аксиологической, стилистической, психологической или сюжетной инаковостью (несоответствием) данного, – выдвинутого на передний план или обрамляющего ведущую тему повествования.
Так, если вернуться к «Сталкеру» Андрея Тарковского, глубинно человеческое и прямо чудесное – по существу же, человек в его способности к участию в чудесном, – обнаруживают себя здесь в оберегающе-выявляющих их формах остранения, через видимое несоответствие.
Стихотворение Тютчева о любовной страсти в финале фильма рассказывается дочерью Сталкера («Мартышкой»). Содержанию стихотворения, его чувственному накалу («Глаза, потупленные ниц / В минуты страстного лобзанья, / И сквозь опущенных ресниц / Угрюмый, тусклый огнь желанья») сама рассказчица не соответствует: она чуть только подросток, калека, «у нее, – как подчеркнуто в сценарии, – замкнутое, невыразительное лицо». Да и голос ее, при ее присутствии в кадре, слышен все-таки из-за кадра, когда сама она, ни разу не заговорившая по ходу сюжета, и теперь лишь «безжизненно шевелит губами».
Смысл указанного несоответствия несколько проясняется, если мы припомним, как значительно раньше звучит тема страсти во внутреннем монологе Сталкера. «Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями; ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети, потому что слабость велика, а сила ничтожна…» Стало быть – и это созвучно аскетически выверенной антропологии святых отцов, – есть страсть как чувственное восприятие внешнего и есть страсть как внутренняя «душевная энергия». Они противопоставлены: одна ищет силы и обладания и это «спутники смерти», другая – присутствует и действует в формах детской беспомощности, незащищенности, слабости, которые одни способны соблюсти и выразить «свежесть», первичную тайну и энергию бытия. «Черствость и сила спутники смерти, гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не победит». «Довольно для тебя благодати Моей, – говорит Господь апостолу Павлу, – сила моя в немощи совершается» (2 Кор 12:9).
Несоответствие дочери Сталкера, в ее предельной беспомощности, чувственной любовной теме тютчевского стихотворения уже само по себе отсылает нас к теме внутренней энергии самого бытия, свободной от «внешнего мира». Сама же эта свобода от «внешнего мира» позволяет и в нем действовать без какого-либо к нему пристрастия, – именно изнутри своей от него свободы, а не по факту рабской к нему привязанности, – распоряжаясь им из царственной от него независимости. Об этом финал фильма. «На столе стоит посуда. Мартышка смотрит на нее – и под этим взглядом по столу начинают двигаться… сначала стакан, потом банка… бокал. Скулит собака. Бокал падает на пол. Девочка ложится щекой на стол».
Но и теперь торжество ведущей темы – обретение человеком своей «душевной энергии» – не сказывается в открытой манифестации, а вновь остраняется побочным естественным, несоответственным возвышенности происходящего, мотивом. «Грохочет мчащийся поезд. Дребезжат стекла». Как в первых кадрах фильма, где лишь намечено движение посуды по столу – в унисон и как будто по причине грохота поезда, – так и теперь это «естественное сопровождение», не отменяя телекинеза, все-таки приглушает, несколько растворяет в «обычном» его демонстративную инаковость, – утверждает дистанцию между нами и чудом. Так же и «Ода к радости», постепенно нарастая «все громче», не господствует в финале безраздельно, уступая значительную долю присутствия все тому же «дребезжанию стекол». В машинописный текст сценария здесь рукою Тарковского вписано: «Слышно, как мимо окон проносится поезд».
В данном случае, конец фильма так рифмуется с началом, что «чудо» телекинеза срастворяется (хотя и не растворяется, не исчезает) со своим естественным фоном – сопутствующей ему мелодией Бетховена, также, в свою очередь, срастворенной грохоту проходящего поезда.
«Несоответственные» формы выражения ведущей темы, на наш взгляд, сродни здесь у Андрея Тарковского тому способу богословского высказывания, который Дионисий Ареопагит определял как «неподобное подобие». Дионисий, как известно, настаивал, что образы, заведомо Богу несоответственные, наиболее апофатически подходящи для свидетельства о неизреченном Божественном превосходстве. Поскольку «утверждения, – говорится в книге «О небесной иерархии», – не согласуются с сокровенностью невыразимого, для невидимого более подобает разъяснение через неподобные изображения»[231 - Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. С. 19.].
«Невыразительность» или прямо невыраженность в отношении к глубинным человеческим переживаниям оказываются наиболее религиозно-напряженными формами такого «неподобного» изображения.
«Ты знаешь знаменитые истории о любви? – говорит Горчаков в «Ностальгии» Андрея Тарковского. – Классические. Никаких поцелуев. Никаких поцелуев, ну совсем ничего. Чистейшая любовь. Вот почему она великая: невыраженные чувства никогда не забываются»[232 - Текст сценария цитируется по электронному ресурсу: vvord.ru/tekst-filma/nostaljgiya/4 (дата обращения: 23.05.2022). Апофатичность невыраженности в мироощущении Андрея Тарковского имеет огромное значение. «Снята седьмая печать, – говорит он в своем Слове об Апокалипсисе, – и что происходит? Ничего. Наступает тишина. Это невероятно! Это отсутствие образа в данном случае является самым сильным образом, который только можно себе вообразить. Какое-то чудо! (…) Апокалипсис 10:4: Скрой… и не пиши сего. Интересно, что Иоанн скрыл от нас? К чему эта странная интермедия, ремарка? (…) В этой детали есть какое-то невероятное, совершенно нечеловеческое благородство, перед которым человек чувствует себя младенцем и беззащитным и одновременно охраняемым. Это сделано для того, чтобы не осквернить бесконечность, чтобы оставить надежду. В незнании человеческом есть надежда. Незнание – благородно. Знание – вульгарно» (См.: tarkovskiy.su/texty/Tarkovskiy/Slovo.html (дата обращения: 23.05.2022)).].
Примером изображения такой «чистейшей любви», опытом высокого религиозного напряжения, целомудренным сообщением «сокровенно невыразимого» является одно из стихотворений Афанасия Фета:
В темноте, на треножнике ярком
Мать варила черешни вдали…
Мы с тобой отворили калитку
И по темной аллее пошли.
Шли мы розно. Прохлада ночная
Широко между нами плыла.
Я боялся, чтоб в помысле смелом
Ты меня упрекнуть не могла.
Как-то странно мы оба молчали
И странней сторонилися прочь…
Говорила за нас и дышала
Нам в лицо благовонная ночь.
Стихотворение А. Фета овеяно глубочайшей тишиной, погружено в молчание, изнутри которого с величайшей осторожностью проступают слова, не нарушающие молчания, но охраняющие его: они здесь – словесное изваяние молчаливой тайны целомудрия.
Мотив расстояния, нарастающей дистанции между «ним» и «ею», между «я» и «ты», существенно оформляет художественное целое стихотворения, – так, впрочем, что все это живое многослойное пространство расстояния оказывается насыщенным ощущением глубокой близости, и самое расстояние переживается как образ присутствия Другого – как благодать расстояния.
Образ яркого треножника «в темноте (…) вдали» задает перспективу простора, которому вверяются двое, воспринимая динамику расстояния, уже и нравственно-экзистенциально окрашенного, внутрь своих отношений. Они отдаются простору («отворили калитку») и «темной аллее», но при этом тьмой и расстоянием облекая в тайну, едва ли и не для самих себя, чувство сокровенной близости друг к другу. «Как-то странно мы оба молчали / И странней сторонилися прочь…»
«Любовь постоянно углубляет свою сокровенную тайну, – пишет Мартин Хайдеггер Ханне Аренд. – Близость есть бытие в величайшем отдалении от другого – отдалении, которое ничему не дает исчезнуть, но помещает “ты” в прозрачное, но непостижимое лишь-здесь (Nur-Da) откровения. Когда присутствие другого вторгается в нашу жизнь, с этим не справится ни одна душа. Одна человеческая судьба отдает себя другой человеческой судьбе, и чистая любовь обязана эту самоотдачу сохранять такой же, какой она была в первый день»[233 - Аренд Х., Хайдеггер М. Письма 1925–1975 гг. и другие свидетельства. М., 2016. С. 11.].
Предельное остранение, – абсолютная неизреченность сокровенного чувства, его полнота, заключенная в молчание, – «об-личаются», разрешаются или сказываются, наконец, в стихотворении Фета в горизонте иного, уже не человеческого, а космического логоса: «Говорила за нас и дышала / Нам в лицо благовонная ночь».