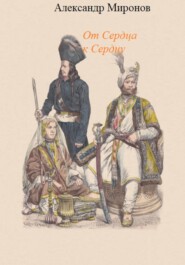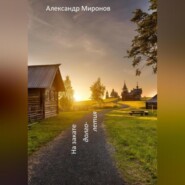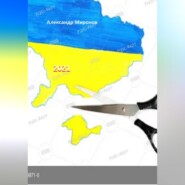По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Закат на Светлой сопке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пока до суда дело не дошло, – сказал председатель, немного отойдя от негодования, – иди по деревне, падай людям в ноги. Не то потянут тебя и за кур, и за яйца, и за машину. Вредительство точно пришьют. Пьянь! И што я с тобой валандаюсь?
Ходил Феофан по деревне, умолял, кланялся, бил себя в грудь, убеждая односельчан в непреднамеренности предоктябрьского представления. Конечно, в суд никто не пошёл, но и Феофану недёшево обошлось закрытие купального сезона.
Вот так и чудил. А парень-то был путный, деловой по началу. И что случилось? Трижды женился и ни с одной не ужился. Городских всё привозил, важничал. Танька, уж на что была прелесть девка, и та ушла. Эх, Гриша, Гриша, как ты мог её упустить? Ведь хороводились, с детства дружили, и вот какая комиссия. Сейчас бы жил и горя не знал. А то женился на городской, с придурью, нарожали детей, а связать концы с концами, дружбой да любовью, не можете. Недотёпы. Эх-хе…
Ночь прошла тихо под монотонный шум дождя. Но старик несколько раз просыпался. Снились родители. Приглашали в гости. Звал и Яков, старший сын. Пришёл после войны на Халхин-Голе по ранению и года не пожил, умер. Говорили, что они по нему тоскуют, одного его только ждут; пора, дескать. Видел с ними и Матрёну, да такой молоденькой, что даже не признал. Оттого и проснулся, с радостным ощущением её присутствия.
– Приду, приду. Вот только управлюсь и приду, – пообещал он всем сразу. – Здесь-то меня боле ничо не дёржит.
Потом проснулся от тоскливого завывания Волчка. Немного сам всплакнул. И так с мокрыми глазами заснул.
Видел он и Груню. Куда-то убегала та, боязливо оглядываясь, и он никак не мог её докричаться. Однако ж, прытка ещё старуха. От смерти что ли бегает? Не надоело, видно, одной в колхозе маяться.
Григорий пальцем грозил; дескать, не шали отец, я все вижу.
Дождь кончился лишь к полудню. Мирон с большим трудом уложил Матрёну в гроб. От напряжения и бессилия взмок и присел на табурет. И думы его были о былом. О том, что какая была бы разница (может быть, в том-то как раз и нет разницы?), как восстанавливать после гражданской войны сельское хозяйство: частным ли образом (как хотел Ерофей Золотцев) или коллективным? Во что он тогда тоже упёрся, поддерживая постановления партии. Может быть, обоими-то способнее было бы, сноровистее? Может быть, не столь муторно, не так надрывно? Может быть, и не разбежался бы народ, не съехал бы с насиженных мест, и не были бы теперь они так одиноки и всеми покинутыми, забытыми той, ради которой голодали, надрывали болоньи, вытягивая воз колхозного хозяйства, теперь о них забывшей – Партии родной? Единственное, что она ещё не забывает, так это – регулярно отсчитывать из его пенсии членские взносы. Деньги не жалко. Жалко другое – жизнь прошла, положена напрасно. Выходит, что напрасно. Сураново жалко, люд. Уморили людей, и он к тому приложил немалое старание. Стыдно теперь перед их памятью и перед теми, кто ещё живой. Хорошо, что хоть живыми выбрались. Человек-то по природе своей, если он свободный, он ведь не будет жить там, где ему плохо. Он искать будет, где лучше. На то он и ЧЕЛОВЕК. Недаром же в народе говорят: рыба ищет, где глубже, а человек, – где лучше. Мудрость извечная, да прикатали её догмами, постулатами, распоряжениями, приказами, сказать проще – силой. Опошлили, унизили. И давили, давили… до первой отдушины. И как только раскрепостили колхозника, он и выпорхнул из гнезда, как птаха после ночи в утренний простор. Остались такие, кому некуда было податься, да вот, как он – идейные и сознательные. Или, наоборот, надломленные, с вывихнутым представлением о нормальной свободной жизни, о свободном, без окрика, труде, без приказов и распоряжений на посев, на жатву, на сдачу зерна до зачистки полов и углов вот в этих вот самых амбарах, что стоят на выезде у поскотины… Нет, Василёк, не построить нам больше колхоз, заново не поднять. И не трать ты, Василий Феофанович, свои молодые годочки на неё. Может быть, когда изменится что-то, тогда уж. А сейчас нет, не хочу. Не хочу больше брать грех на душу. Хватит. Живи человеком.
Громко взвыл Волчок. Старик очнулся. Глядя на жену, озадачено спросил:
– Как же я тебя, милая, снесу на могилку?
Постоял в раздумьях, потоптался, словно был виноват в том, что никого рядом нет, и что проводить в последний путь человека некому. Обидно и грустно. Будто нелюди.
Задумчиво поглаживая бороду, вышел из горницы на кухню и упёрся взглядом в лавку. На лице промелькнула какая-то мысль. Быстро вышел на двор и направился в сарай, где висели колеса от телег, лежали оси со шкворнями.
Мирон снял со штырей четыре колеса, маленькие, передние от лёгких бричек, когда-то существовавших в колхозе. Принёс к верстаку. Хотел и оси принести, но они были длинными, и не прошли бы в двери – прикинул он.
Вынул из ограды жердь. Отмерил, отпилил и стал подгонять концы коротышей под ступицы колёс. Затем, смазав солидолом, укрепил колеса на изготовленных осях и зашкворил гвоздями.
Вытащил из дома лавку. Оторвал от неё ножки и уложил на оси. Прибил. Получилась длинная жёсткая повозка, катафалк.
Снял две плахи с заплота и выложил из них скат с крыльца: одни конец досок положил на крыльцо, другой упёр в землю. Вкатил по ним тележку в дом, в горницу.
Попеременно переставляя, то один край, то другой, поставил гроб с табуреток на катафалк.
Поправил покойнице руки, волосы, одежду и присел перед дорожкой.
Кот, обычно по целому лету блудивший в лесах и не появлявшийся даже на корм, выглянул из кухни, блеснул круглыми глазами, как будто спрашивал: "Не прогонишь?" – нерешительно и тихо прошёл под кровать. Откуда уж больше не показывался. Старик хмуро смотрел на него, хотел было прицыкнуть – принесла нелёгкая! – но сдержался. Хоть одна живая душа пришла с человеком попрощаться.
Выкатывал катафалк Мирон осторожно. Через порог приподнимал то передние, то задние колеса. А с крыльца спускал по доскам, придерживая сзади. Во дворе прикрыл покойницу крышкой, слегка прихватив её гвоздями.
Принёс вожжи. Прибил их к лавке, впрягся в них и медленно поплёлся со двора, прихрамывая и опираясь на посох.
Замыкал траурное шествие Волчок. Он не выл, не скулил. Шёл, опустив низко голову.
Грязи на дороге почти не было. Деревня стояла на бугре, поэтому вода стекала в Тугояковку по старым вымоинам, не нанося дороге повреждений. Спускаясь в-под гору, старику пришлось распрячься и, зайдя сзади, придерживать тележку. Иногда и подталкивать, если она попадала колёсами в какую-нибудь ямку.
У перекрёстка, что вёл на деревню Светлую и на разъезд Сураново, он развернул возок, впрягся в вожжи и потянул его на Светлую горку, единственная сопка, где растёт лиственный лес, наверное, поэтому её выбрали под кладбище, – чтобы скрашивать быт потусторонний под весёлою листвою.
Подъём к могильнику был крутоват, неровен. Кое-где торчали жилы корневищ. Словно чувствуя кожей, рёбрами эти неровности, Мирон, как только мог, старался осторожно закатывать тележку на гору, чтобы не так тряско было покойнице. Иногда переставлял колеса, подталкивал сзади съезжающий гроб.
Вымотавшись, старик поднялся-таки к заветным четырём холмикам, к свежевырытой яме и, сбросив вожжи, устало сел на мягкую землю. Волчок прилёг рядом. Мирон, отяжелевшей рукой дотронулся до его головы, и тот повернулся. Их глаза встретились. Пёс, как будто увидев в них что-то неотвратимое, жалобно взвыл.
Опустить гроб старик был уже не в силах. Да и как? Думал приладить лёжки и скатить по ним, но получился бы слишком большой уклон, гроб мог стукнуться о стенку. Да и потом, как убрать из-под него лёжки?
Надумал сгрузить гроб на бровку, обмотать вожжами и, опустившись в яму, принять его на себя.
Он поднялся, обхватил гроб, напрягся и вдруг почувствовал, что сил у него нет никаких! Вновь сел на прежнее место и беззвучно заплакал. Немощь и бессилие привели его в отчаяние.
Пёс, неустанно следивший за ним, тоже заплакал.
Успокоившись, старик стал размышлять, как быть дальше? Теперь идея – принять гроб на себя – показалась нелепой, так как если бы он на это решился, то умер бы, придавленный гробом и собственной женой.
Меж туч показалось солнышко. Его короткий всплеск осветил округу: широкую площадку в пожухлой зелени, оттого скучной, пожалуй, дикой, с чернеющей по средине, как монумент, его избою и на окраине на заречной стороне тремя амбарами. Квадраты бывших огородов, по краям отороченных густым белоголовником выцветшего осота. Разноцветная дорога, извилистая, плоская, напоминала иссохшую шкуру змеи; голый черёмушник, тальник, вербы вдоль Тугояковки; густой кедровник, полукольцом окружающий вымершее село.
Сураново вымирало. Вымирало в рассвет строительства социализма. Маленькая деревушка, одна из сотен, что располагались на необъятных просторах великой и могучей России. Такие деревушки когда-то и создавали ей славу, и составляли её могущество, были духом её. Тем Россия-матушка и была крепка. Но прошли те времена. Другая теперь в России сила. Гораздо б?льшая. Гораздо мощнее и сокрушительнее. Она затмила всё, что до неё ранее существовало. "Цибилизация", – хоть смейся над Груней, хоть плачь, а действительность вот такая. Выросла, окрепла на горбу деревень эта самая цивилизация и забыла про свою прародительницу, наоборот, заглушила её, как пшеницу овсюг. Заросли огороды лебедой, пыреем, а усадьбы – чернобыльником. Зачахла нива, ушёл мужик. И где бы ты ни был сейчас: в Туле иль в Твери, на Волге или на Енисее, в Забайкалье или в Приморье, – всюду набредёшь на останки малых деревень. Они напомнят о себе крестами заброшенных могил, ямами обвалившихся подвалов, пригорками, истлевших фундаментов, поросшими плесенью столбами, заросшими травой дорогами, кое-где и того уже не сыскать – истлело, кануло в небытие. И всё так быстро! Так неожиданно! Прямо на глазах. На твоих глазах. Казалось бы, давно ли ты подростком пособлял родителям малой подмогой: пас гусей, свинок, коровушек; потом сам косил траву для них, позже пахал, собирал урожай, – обучался крестьянскому ремеслу, чтобы стать хозяином, наследником. Кажется, вот недавно, стоит только оглянуться назад…
Потом перестраивал мир, призывал народ к светлому будущему, искренне веруя в него, в рай коммунистический на земле. С верой перестраивал и быт, и жизнь в деревне, ломал обычаи, может и судьбы (как знать?). Вот только грустно. Грустно и обидно отчего-то. И порою стыдно перед людьми, которых ты как будто бы обманул, поскольку был проповедником этих идей, призывал, а кого и принуждал, и они шли. И к чему пришли? Как-то не всё в этой жизни сложилось, как-то до обидного не всё… Порой ему казалось, что он не в своей деревне, не здесь, в Сибири, а где-то там, на западе, где война прошла опустошающим вихрем, спалила и осиротила сотни деревень, оставив о них лишь скорбные напоминания. В эти минуты как будто бы чей-то чужой голос вычитывал фамилии хозяев, некогда существовавших дворов, и что ни фамилия, то волна по сердцу и непроизвольный вздох, и почему-то о некоторых своих односельчан вспоминал, как о без вести пропавших.
Первые годы Советской власти вплоть до самой войны, да и некоторое время после войны, жила на селе какая-то сила, что невидимой нитью связывала крестьян в одну большую и дружную семью, заставляя жить одной общей заботой. Что это была за сила: нужда? бедность?.. Буквально через год они поселились в деревне после коллективизации. По неопытности всё общественное разом спустили, и к весне стали зубы на полке сушить от голода… Но нет, не нужда и бедность. Что-то другое. Нужда и бедность скорее играли хоть и объединяющую роль, а сплачивала всё же вера в будущее: в завтрашний день, в следующий год… И эти "жданки" стряпал он, и те, кто повыше его были. И люди верили в них, надеялись. Тебе верили, на тебя надеялись. И, конечно же, на Партию родную, на Правительство родное. Верили, что ещё немножко, ещё чуть-чуть, и будет не жизнь, а малина. Не все конечно, но большинство. Те, кто не верил, находил предлоги, чтобы сбежать, спивался или становился врагом колхозов и совхозов, Советской власти. И вот, нет ни врагов, ни недругов, и крестьян тоже нет. И теперь жизнь настала, та самая – райская; сам себе хозяин: и председатель, и бригадир, и сеятель, и хранитель. А теперь, и хоронитель.
Мирон покусывал жёлтый ус и молчал. Не с кем было разделить свою боль-печаль, грусть свою. Молчал, чувствуя свою незащищённость перед той мёртвой кладбищенской тишиной, где уже не умом, а всеми фибрами души понимаешь силу и неотвратимость подступившего конца.
Солнечный луч высверкнул и нужную мысль.
Мирон положил окурок на спицу колеса и, кряхтя, поднялся. Обойдя могилу, взял лопату и, обваливая землю в яму, стал удлинять её со стороны подъёма. Рыл медленно, часто останавливаясь. Задумчиво покуривая, оглядывал родную сторонку, как будто бы хотел запомнить её.
Поздно вечером был готов пологий въезд в могилу. Мирон почистил, притопошил ногами свежевырытый вход и вкатил по нему повозку.
Четвертую ночь Матрена переночевала в могиле на колёсах.
Ночью небо не плакало, и утро выдалось погожее. Солнце было ярким, и с его первыми лучами у могилы появился старик. Он пришёл вместе с четвероногим другом, теперь не отстававший от хозяина, и принёс табурет. Поставил его у вырытого въезда. Сошёл в могилу и выкатил катафалк. Снял крышку гроба: пусть подышит голубка ещё. И сел к нему лицом, притих.
О чем он думал? Пожалуй, о том же, каждодневном. За эти дни он ничего не ел, не хотел, словно со смертью жены, у него отмер и желудок, по крайней мере, чувства голода он не испытывал, только изредка пил воду. Кусок не лез в горло. Вместе с чувством голода отмирали и думы, мысли, может быть, и мозги. Он отрешался от мира, с которым решил порвать, ушёл в себя, как в скорлупу орех. И все делал под действием слабого импульса здравого смысла. И этот смысл заключался в том, чтобы самому наладить последний их приют. Надеяться не на кого.
Он сидел, положив руки на колени, спина была согнута, голова склонённая, непокрытая, и прохладный ветерок обдувал на ней жидкую белую поросль.
Впалые щёки, удлинившийся нос, нависшие брови, отсутствующий взгляд и мертвенная бледность старика привели собаку в исступление. Волчок завыл, заплакал.
Старик вздрогнул и осуждающе посмотрел на верного товарища, дескать, успокойся, всё кладбище всполошишь. Волчок примолк, но носом продолжал издавать слабые звуки.
Мирон поднялся. Постоял, посмотрел на жену и, вздохнув, принялся за дело.
Примерно в полуметре от стены поставил принесённый табурет. Подкатил к нему катафалк и, приподняв край гроба у изголовья, ногой стал выталкивать из-под него тележку. Освободившуюся часть гроба поставил на табуретку. Затем, приподняв другой край, ногой вытолкнув из-под него тележку совсем, опустил его на землю.
Матрена лежала под углом и, казалось, прищурилась от яркого света. Лицо посветлело, и синева отступила.
Собака недоуменно смотрела сверху с бруствера могилы на свою бывшую хозяйку, то, поскуливая, то, приветливо помахивая хвостом. Переводила взгляд на хозяина и, не получая никаких разъяснений, вновь скулила.