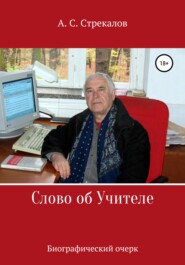По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Немеркнущая звезда. Часть вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
–… Ну-у-у… не знаю… делай тогда другой вариант, – подумав, посоветовала она.
– А зачем? – пожал Вадик плечами. – Там все задачи такие же.
–…Ну тогда иди домой – коли тебе в классе делать нечего, полушутя-полусерьёзно сказала учительница, беря в руки тетрадь Стеблова, листая её.
Вадик, не раздумывая, взял портфель и вышел из класса…
На другой день Лагутина вернула ему тетрадь на уроке, где стояла отличная оценка. Возвращая её, она пожаловалась, опять-таки – в шутку, что зря, мол, только таскала её домой – руки себе оттягивала. Улыбнулась и заявила: что там, мол, ей проверять нечего – там всё отлично.
«А Вы и не оттягивайте, – заметил ей кто-то из острословов-учеников, – Вы сразу ему, без проверки, пятёрки ставьте».
Озорная реплика та уже через неделю материализовалась и воплотилась в жизнь, стала для Стеблова правилом, нормой учёбы. И для него, и для преподавательницы.
Через неделю у них была контрольная по геометрии, где всё повторилось в 10 “А” с точностью. Пока неторопливая Нина Гавриловна выписывала на доске второй вариант задач, Вадик быстро решил первый. После чего отдал учительнице свою ужасающих размеров тетрадь в клеёнчатой толстой обложке, которая не влезала в сумку Лагутиной, рвала там внутреннюю обшивку, – отдал, поднялся уже без команды и пошёл отдыхать в коридор, слыша за своею спиной восторженные возгласы одноклассников…
А на утро, возвращая ему тетрадь с пятёркой, Лагутина взбунтовалась уже по-настоящему, сказав прямо, что таскать такую тяжесть домой она не желает более, потому как проверять ей там абсолютно нечего; и что поэтому Вадик, если ему не интересно её задачи решать, пусть-де сидит и решает свои – интересные, чем он, собственно говоря, и занимается на её уроках: она это видит прекрасно.
«Хорошо, – ответил на это Вадик, – буду решать».
И контрольных по математике для него с той поры более уже не существовало…
Таким вот образом уже с конца сентября, в плане наук математических, Стеблов окончательно отделил себя от класса, от буднично-повседневной жизни его, насущных дел и тревог, проблем и забот неизбывных и утомительных, с выпускными экзаменами связанных и последним звонком, с получением аттестата зрелости. Формально да, он числился в 10“А”, сидел ежедневно за партой и вроде как что-то там слушал, голову приподнимал. Но при этом с классом не сливался полностью, живя своей собственной внутренней жизнью, яркой и увлекательной на удивление и на зависть, расписанной до минут, до предела насыщенной, в которую он не пускал никого, даже и своих родителей, которую оберегал от посторонних глаз и влияния пуще всего на свете.
Он приходил на уроки алгебры и геометрии, на анализ тот же, открывал привезённые из Москвы пособия, как правило – изданные в МГУ, и планомерно и старательно штудировал их, изучал, решал самостоятельно их задачи, ни на кого не глядя в такие минуты, ни в чьей не нуждаясь помощи. А надеясь только лишь и исключительно на себя самого, собственные здоровье и труд, возможности и способности.
У него был конкретный и чётко расписанный план на последний перед выпуском год, и своя же выверенная до мелочей образовательная программа, нацеленная на мехмат, в которой ему некому было в 10“А” помогать, подсказывать и контролировать, включая сюда и учительницу. О чём Вадик, по правде сказать, ни сколечко не тужил и горечи никакой не испытывал. Он привык в интернате быть себе самому судьёй, педагогом, подсказчиком и помощником: Гордиевский с Мишулиным его к этому хорошо приучили. И цензором самым придирчивым быть привык, самым строгим и бескомпромиссным, каких ещё поискать, не прощавшим себе и малейшей расслабленности и изъянов в работе, не принимавшим сомнений и передышек, нытья. Передышки, нытьё и опека плотная с чьей бы то ни было стороны его и маленького раздражали.
Ну и чего ему было у Господа Бога просить и желать, коли так?! о чём горевать и кручиниться при таком-то самоконтроле и самоотдаче, при таком горении?! Одна только воля железная была ему и нужная, хорошее самочувствие и настроение, и большое количество свободного времени. Чтобы успеть сделать всё намеченное и запланированное в срок, хорошо к вступительным экзаменам подготовиться… Это он и получил в родном дому и школе своей – получил с избытком. И слава Тебе, Господи, как говорится!..
Лагутина, словно бы сговорившись с преподавательницей химии и неосознанно копируя её, старалась тревожить Вадика только тогда, когда в процессе обучения попадалась какая-нибудь задачка особенно сложная, которую ни ученики, ни она сама не могли решить; или когда приходила, опять-таки, на её уроки комиссия из ГорОНО с проверкой. В такие особенно нервные дни Стеблов непременно вызывался к доске в числе первых и простаивал там, как правило, до конца урока, закрывая собою учительницу и класс, нивелируя умственную и образовательную слабость 10“А”, как и все имевшиеся педагогические просчёты и недоработки. Но это было раз в четверть всего – не чаще, – и Вадика сильно это не напрягало; наоборот – развлекало только, давало возможность лишний раз себя показать, силу и знания свои проверить и почувствовать.
А ещё Лагутина, уличив момент, подходила к нему иной раз на перемене, краснея и тупясь как девочка. Просила, прячась от учеников, растолковать ей некоторые наиболее важные моменты новой программы: про значение первых и вторых производных в деле исследования непрерывных функций, про точки локальных экстремумов и перегибов, про неопределённые и определённые интегралы, наконец: чем они отличаются друг от друга и как их, соответственно, искать. И Вадик рассказывал ей что знал, как ровне своей или матушке – без дешёвого зазнайства и ухарства, понимай, без ехидного высокомерия, тем паче, – как растолковывал он ежедневно такие же точно вопросы школьным своим товарищам и друзьям. И учительница была ему особенно благодарна за это.
Отношения установились у них деловые и взаимно-уважительные, которые устраивали их обоих. И, особенно, они устраивали Вадика, безусловно. Нина Гавриловна дала ему полную свободу на своих уроках, – а это для предельно целеустремлённого и мобилизованного Стеблова, на Москву заточенного, на Университет, было на тот момент самым что ни на есть важным…
4
Были в четвёртой школе и другие преподавательницы, которые относились к Стеблову с большим уважением, с некоторым почтением даже, и старались по возможности не тревожить его частыми вызовами к доске, опросами и проверками еженедельными, даже и видя его полное равнодушие к их предметам.
«Паренёк горит изнутри, живёт своей математикой, – так зачем же мы станем ему мешать, палки вставлять в колёса», – встретившись в коридоре или учительской, между собою согласно переговаривались они – точь-в-точь как воспитатели интернатовские – и создавали Стеблову самые выгодные условия, самые что ни на есть щадящие. Подмечая, что во время уроков истории, биологии или той же химии, например, он сидит и решает тайком математические задачи из книг, на которых профиль Главного здания МГУ красовался, они не останавливали его никогда, не ругали. Они только подходили к нему потом, когда их уроки заканчивались, и спрашивали подчёркнуто уважительно:
«Ну что, Вадик, готовишься? Скоро опять в Москву, в Университет поедешь, да?»
Стеблов утвердительно кивал головой как о вопросе давно решённом, и они, желая успеха, отпускали его. Чтобы он, отдохнув пять минут, на следующем по расписанию уроке продолжал готовится дальше.
Он никогда не скрывал своих намерений из суеверной трусости или из лицемерия, хотя и не трезвонил о них, не благовестил на каждом углу для самовосхваления и саморекламы. Но если подходил кто и спрашивал его о планах, – отвечал твёрдо, что хочет поступать на мехмат, профессиональным математиком в будущем становиться.
Ему, впрочем, и не нужно было бы всего этого говорить – потому как Университет светился в его глазах так же ярко и убедительно, как светится университетский золотистый шпиль в солнечную погоду. Этот свет исходил от Вадика за версту, заставляя добрых людей почтительно жмуриться и улыбаться при встрече…
Не все педагоги, однако ж, понимали его, ценили его устремления, своевольничать ему позволяли, любимыми заниматься делами чуть ли ни целый день, не все на подобную роль соглашались – второстепенную и унизительную для себя и своих предметов. Были и такие, которые отчаянно сопротивлялись этому и всё пытались у себя на уроках к порядку его призвать, к дисциплине, заставить уважать себя и свою работу, свой труд.
И первой, самой настырной и яркой в этом коротком ряду стояла Старыкина Елена Александровна, уже третий год кряду учившая их класс русскому языку и литературе. Она особенно в этом дисциплинарном деле упорствовала и лютовала, с обособленностью и своеволием Стеблова смириться и не хотела, и не могла: завучем школы работала, всё ж таки, к порядку не только учеников, но и учителей призывала. Да и по натуре своей дамой была предельно гордой, обидчивой и самолюбивой.
Елену Александровну Вадик очень уважал до Москвы: ему импонировали её железная воля, фанатизм и профессионализм, как и её решительный, взрывной и предельно-импульсивный характер. Стеблов и сам был фанат по натуре, был одержим любым делом, за которое брался; сам был взрывным и легковозбудимым до крайности, подвижным, озорным, заводным. И литературу русскую он очень любил: хорошие книжки “глотал” как конфеты вкусные.
И Старыкина ценила его – хотя и скрывала это, – частенько как с равным спорила с ним по литературным вопросам: когда они расходились в оценках того или иного героя. Статьи критические ему приносила не раз, чтобы свою позицию подтвердить и авторитет не уронить учительский. Более в классе с ней не спорил никто на профессиональные темы, даже и Чаплыгина Ольга; и она свою правоту так жарко более ни перед кем не доказывала. Делай Стеблов поменьше ошибок, грамотнее и аккуратней пиши, – и он бы ходил у неё в любимчиках, в фаворитах…
Но после Москвы Вадику стало не до неё; точнее – не до её уроков.
«Сочинение – это всё ерунда, – не единожды говорили ему в Москве приезжавшие к ним в интернат выпускники, мехматовские студенты, когда разговор про вступительные экзамены заходил, про суровое экзаменационное сито. – Из трёх ежегодно предлагаемых на экзамене по русскому языку и литературе тем одна обязательно будет свободной. Бери её, – усмехались они делово, – и пиши себе преспокойно. Простыми предложениями пиши, где одни подлежащие и сказуемые, используя только те слова, которые хорошо знаешь… Две-три странички напишешь – и хватит: этого будет достаточно. Двойку тебе, во всяком случае, за это никогда не поставят. За сочинение на мехмате двойку редко ставят кому: на мехмате главное – математика».
Памятуя о таком наказе бывалых, знающих людей, Вадик и сосредоточился дома исключительно на математике, штудированием которой без сожаления заменял по интернатовскому испытанному образцу уроки родной словесности; или пытался по возможности заменять, пускаясь на всякие ухищрения…
Вот проходили они, к примеру, программную «Поднятую целину», рассказывала им Старыкина у доски образ Давыдова или Нагульнова: как десятиклассники обязаны-де их себе представлять, как понимать должны бессмертных шолоховских героев, в каком, так сказать, политическом плане и ракурсе. И – штамп на штампе лез из её пламенных учительских уст, лозунги и казёнщина бюрократическая, спущенная из министерских недр через обязательные хрестоматии, пособия и учебники. Что оборачивалось скрытой дискредитацией и профанацией Шолохова, пусть с её, Елены Александровны, стороны неосознанной и невольной, искренним стремлением продиктованной получше данное произведение преподать, сделать его как можно более ярким и привлекательным.
На деле же выходили сплошная ерунда и скука, этакая литературная “таблица умножения”, “алгебра” с “геометрией” или тот же “бином Ньютона”. От которых идеологической мертвечиной пахло, кисли и тупели мозги, а скулы на сторону сводило. Скучно становилось от всего этого и неинтересно, и за светлого русского гения очень обидно. Ясно же, что М.А.Шолохов был слишком велик и необъятен, и слишком мудр, чтобы пытаться впихнуть его, даже и из благих побуждений, в какие-то шаблонно-трафаретные рамки. И потом в таком вот урезанном и уменьшенном виде как-то пытаться его понять, суть его повестей и романов с горем пополам выудить. Которые, как теперь уже ясно его почитателям, нервами и кровью писались, тайными фибрами души. И за них писатель всю жизнь собственной здоровьем расплачивался, как и спокойствием и комфортом семьи.
Повзрослевший и возмужавший к выпускному классу Стеблов подобную тупую казёнщину и зубрёжку, всевозможные суррогаты и эрзацы школьные уже плохо переносил: ошалевал от шаблонов и штампов – литературных, исторических, идеологических – любых. И, спасаясь от них, он тайком доставал из-под парты задачник заветный и начинал что-нибудь оттуда решать, коротать с пользой время, пока одноклассники его сидели и переливали из пустого в порожнее в классе; учили, что надо, а чего не надо на будущих выпускных экзаменах говорить…
Но и Елена Александровна была человеком упорным и волевым, и не собиралась так просто сдаваться: позволять ученику, пусть даже и через чур увлечённому, оскорблять и унижать себя. Тут уж, как говорится, находила коса на камень: характер сталкивался с характером, энтузиазм и задор молодой – с фанатизмом, достоинством, властью.
Увидав однажды во время своего объяснения на столе у Стеблова постороннюю книгу, большую такую, красивую, с университетским профилем наверху, она, позеленев и рассвирепев от злости и от обиды страшной, не раздумывая, схватила её и запустила с размаху в стенку. Да сильно так, от души, что обложка книжная оторвалась и отлетела в сторону и сильно помялись страницы учебника, порвались даже в некоторых местах.
– Я понимаю, Стеблов, что ты увлечён, и что тебе не интересно в школе, – сказала она после этого тихо, но так, что за обманчивой той тишиной отчётливо чувствовалось притаившаяся рядом буря. – Но ежели ты всё-таки ходишь на мои уроки, вынужден из-под палки ходить, – то уж будь добр хотя бы послушать их краем уха… Ты же русский человек, как-никак, по крови, по месту рождения русский. И русский язык просто обязан знать, великую литературу нашу, которой Россия перед целым миром гордится, посредством которой цивилизованный мир обошла.
Вадик не обижался на пылкую, искреннюю в своих порывах учительницу: некогда было ему на неё обижаться. Образовательная программа, что он для себя наметил, была столь объёмна и глубока, требовала столько сил физических и душевных, что не допускала даже и самых малых и незначительных с кем-либо склок и обид, которые подрывают здоровье.
Поэтому он мобилизовался и забронировался ото всех предельно: он запер душу свою с эмоциями под пудовый замок… А после этого случая, жалея ценные книги, он на переменах стал аккуратно выписывать оттуда задачи на крохотные клочки бумаги, и всё равно тайком решал их на уроках Старыкиной – к поступлению на мехмат готовился, к серьёзнейшему экзамену по математике, что его ожидает там…
Подметив однажды и эту хитрость, Елена Александровна багровела как помидор, взрывалась, метала громы и молнии на непокорного ученика, к доске его немедленно вызывала – домашнее задание у доски отвечать. Встревоженный ученик хмурился, недовольный, что его от любимого дела словно телёнка от сиськи оттягивают, натужно прошлый урок вспоминал: что проходилось там, что задавалось на дом. Если удавалось вспомнить, – он отвечал; если нет, – говорил честно, что урока не знает.
– Ты потому не знаешь, что не хочешь знать! что тебе наплевать на меня и на мои старания! – блажила тогда на весь класс разъярённая завуч. – Но имей в виду, дружок, что плевать на русский язык и на литературу я тебе не позволю! Завтра я тебя опять спрошу – первого! Так что будь добр – выучи сегодняшнюю тему, если не хочешь неприятностей себе!
Делать было нечего, и дома к стенке припёртый Вадик с большой неохотой брал в руки литературные и языковые пособия, зевая, учил положенный материал – чтобы на другой день доложить его как положено в классе.
Елена Александровна успокаивалась на время, светлела душой и лицом. И тогда он опять принимался за прежнее – за тайное решение на её уроках математических и физических задач. И меж ними опять случался громкий скандал, едва не кончавшийся рукоприкладством.
– Я тебе сейчас двойку влеплю, Стеблов! – взрывалась Старыкина девятибалльным гневом, замечая Вадика за посторонним занятием, поднимая с места его и отчитывая перед всем классом. – Ты до каких пор, скажи, будешь надо мной издеваться?! до каких пор будешь испытывать терпение моё?!… Я на самом деле сейчас пойду – и поставлю тебе двойку в журнал… А потом за год выведу тебе обе тройки по своим предметам. Возьмут тебя с тройками в Университет?
Старыкина яростно подходила вплотную, в упор вопросительно смотрела нарушителю дисциплины в глаза, ждала ответа.
– …Возьмут, – отвечал ей Вадик спокойно, ничуть не сомневаясь в сказанном. – Если вступительные экзамены хорошо сдам.
– Тогда я тебе двойки в аттестат залеплю!!! – ревела багровая Елена Александровна, уже окончательно терявшая контроль над собой, готовая с кулаками на молодого упрямца броситься. – Поедешь у меня в Москву поступать с двойками в аттестате!!!
Спокойствие и неизменное к ней равнодушие со стороны вернувшегося Стеблова убивали её, терпения и сил лишали, здоровья последнего. Они изводили её тем вернее, – что Вадик по-прежнему нравился ей, нравился даже больше, чем было раньше – это было заметно даже и по мелочам. Её как магнитом притягивало, вероятно, железное его упрямство, покоряли воля стальная и несгибаемая, его прямо-таки фанатичный на Москву настрой; и, наконец, его потрясающий жар душевный, что струился из его карих глаз беспрерывным лавинообразным потоком, сметавшим все препятствия на пути.
Ей было обидно только, что всё это лично её не касалось; что ежедневно, из урока в урок, как электричество в проводах или молоко на далёкой ферме, текло себе и текло – и протекало мимо…