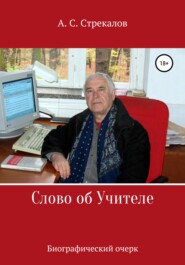По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Немеркнущая звезда. Часть вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но даже и после этого он своего срединного статуса не поменял в глазах друзей и учителей, в классе особенно не выделялся, не петушился и не егозил – избави Бог! – лидера из себя не строил. И никогда не обманывался на свой счёт, не питал относительно скромной своей персоны иллюзий. А свои наличные способности к математике за таковые очень долго не признавал: пока уж на работу ни вышел и с другими там себя ни сравнил, абсолютно бездарными и никудышными выпускниками известных столичных вузов. До этого же он совершенно искренне подменял их, способности, в своей детско-отроческой голове, а потом и в сознании юношеском одним лишь упорством внутренним, исключительным старанием, усидчивостью и любовью…
Збруев же Сашка, наоборот, уже с пятого класса ходил у них в школе в “гениях” и “вундеркиндах”, если помните, маску которых – без лишней скоромности и стеснения! – он лихо так на себя водрузил и носил потом как родную все школьные годы. И математик-то он гениальный, заоблачный, и шахматист, – трезвонили учителя и завучи в один голос, – и просто расчудесный во всех отношениях мальчик-паинька, с которого-де нужно брать пример, на которого необходимо равняться.
Пропаганда збруевской “гениальности” результаты давала блестящие. Выражались они хотя бы в том уже, что в момент своего с Сашкой знакомства заговорённый педагогами Стеблов стал автоматически смотреть на этого неказистого и вертлявого паренька снизу вверх, как на заведомо более талантливого и даровитого. Хотя уже и тогда в интеллектуальном плане не сильно ему уступал, а физически был здоровее и выше откровенного доходяги Сашки на целую голову.
Где Сашка действительно преуспел и превзошёл его, – так это в познавательном и культурном плане: там он с очевидностью был подкован лучше. Из-за чего при решении некоторых нестандартных задач мог уверенно применять такие теоремы и правила, и формулы замысловатые, про которые Стеблов не слышал ничего и не знал, которые им не объясняла Лагутина…
Быстро всё это подметив, он, пристыженный и оконфуженный, кинулся за Сашкой вдогонку. И приснопамятный восьмой класс в этом плане стал для него переломным. Он не шёл, а летел к знанию, к свету, к вершинам элементарной математики, работая как одержимый весь год и решительно отодвинув в сторону забавы прежние и пристрастия.
Цель была у него одна, великая и благая: поскорее образовать себя, ликвидировать невежество собственное и бескультурье, и Сашкино над собой превосходство, которое ему не нравилось совсем, подсознательно его обижало и унижало. Но и, одновременно, куражом наполняло душу, азартом – как в спорте, как некогда в лыжах любимых, где он всех хотел перегнать, победить, стать чемпионом.
Ему всё удавалось в тот год, ладилось без проблем, спорилось и получалось. Он поднимал без устали свою математическую целину, без слёз, истерик и жалоб: ему помогали в этом контрольные из ВЗМШ и Сашкины бесценные книги. Да и сам он здорово ему помогал имевшейся у него информацией: что почитать советовал и порешать, выучить и запомнить как первоочередное и важное, и на что особое обратить внимание.
И Стеблов был от души благодарен ему за это, ему и его семье, что на весь город у них гремела, или на большую его половину. Там Вадика хорошо принимали всегда – на удивление хорошо, ну просто на удивление! А почему? – непонятно. Загадка Судьбы!…
Ежедневный упорный труд, энтузиазм великий и вдохновение без пользы для него не прошли и в Лету бесследно не канули, слава Богу. К концу восьмилетки возмужавший, окрепший и оперившийся в культурно-познавательном плане Вадик догнал по знаниям своего “гениального” друга, сравнялся в математике с ним, а кое в чём даже и превзошёл благодаря учёбе в заочной университетской школе. И даже начал консультировать Сашку по наиболее сложным темам и решению некоторых задач, которые тот самостоятельно осилить не мог, где уже даже и матушка ему была помочь не в силах.
Надо признаться, что догнать Збруева оказалось не сложным делом – потому как интеллектуальные Сашкины кладовые не были столь уж велики и обильны, как думалось непосвящённым людям; как не были глубоки и извилисты и его мозги и аналитические способности. К тому же, повторим, он был вертляв от природы, ленив и неусидчив до крайности, был совершенно не приучен к труду: к тяжести его изматывающей, его мозолям и поту. Он, как глупый птенец из гнезда, привык все знания получать от матери: чтобы та по-птичьи подлетела стремительно в нужный момент и самостоятельно их в него запихнула, предварительно знания разжевав. А он их только бы заглатывал и заглатывал, не напрягаясь и разу не поперхнувшись…
Но даже и после этого – после своих несомненных успехов и прогресса блестящего и очевидного – Стеблов продолжал относиться к Сашке подчёркнуто уважительно, а в общении продолжал смотреть на него, как и раньше, снизу вверх. И, как и раньше же, считать его для себя за несомненного лидера и безоговорочный авторитет. Пусть только и в математике
Это, по сути, делалось им автоматически, по накатанной, так сказать, дорожке. И самолюбия его природного, не маленького совсем, это не ущемляло ни сколько. Он был благодарен Сашке за прожитый год, за знания, полученные от него и книги; и всё ещё дорожил, гордился перед другими и крепкою дружбою с ним, и ежедневным общением.
Весь восьмой класс он с гордостью разгуливал с Сашкой по школе почти что каждую перемену, как равный разговаривал с мамой его на школьном дворе, с гордостью приходил в их дом, здоровался там за руку с Иваном Ивановичем, отцом Сашки.
Дружба со Збруевыми была честью для Вадика – и милостью с их стороны: они ведь подняли его до себя, возвысили несказанно; они распахнули ему, чумазому, жаркие свои объятия.
Вадик помнил об этом всегда и был от души благодарен им. Он был благодарным человеком по натуре своей… и очень и очень памятливым…
12
Идиллию в их отношениях безжалостно интернат разрушил, куда Стеблов один, без Збруева поступил, куда в одиночку же и учиться уехал. Это нерядовое событие стало для Сашки такой оплеухой болезненной и плохо-переносимой, от которой он долго не мог отойти, которая весь девятый класс, почитай, ему беззаботно жить и учиться мешала, терзая его душу и сердце самолюбивое, гордое, обидой жгучей и завистью.
Понять Збруева было можно, конечно же, – и пожалеть, посочувствовать, словом добрым утешить, если уж не помочь. И то сказать: целый год он нянчился с Вадиком – подсказывал, просвещал, советовал, книги редкие без сожаления и проблем поставлял из домашней библиотеки, в областной центр на экзамены в тот же интернат возил через хлопоты матери, сделал его товарищем первым, как равного ввёл в свой дом, познакомил и подружил с родителями. Какую честь он этим ему оказал, как одолжил его – плебея зачуханного и беспородного!
И вдруг этот выскочка и плебей, деревенский лапотник-балагур чумазый, всегда послушный и недалёкий, и предельно-покладистый, от которого навозом за версту пахло вперемешку с квасом, такое позволил себе учудить – обойти друга-Сашку на повороте! Это он-то, чучело и лох поганый, Иванушка-дурачок без роду и племени, клоун бесплатный, потешный, годный лишь для разудалых игрищ и забав, и развлечений шумных, после-урочных! – на какое место, скорее всего, его родители Збруевы и определили подле одинокого сына! А этот дурачок-Ваня, свинтус немытый и неухоженный, нищий, едет в Москву учиться, в лучшую школу страны, хлопая их всех по носу. Что за невидаль и за дикость такая, замешанная на несправедливости?! Почему именно он превращается в принца сказочного на глазах у всех, в царевича-Ивана?! За что это ему такие заслуги необъяснимые, и такая фортуна по жизни выпали?!… И почему образованный наставник его, “гениальный во всех отношениях” Сашка по какой-то непонятной причине остаётся дома ни с чем?! – продолжать рассказывать далее одноклассникам и соседям байки про свою гениальность и свой неземной талант! Как оказалось: вилами на воде писаный.
Да, безусловно, большего унижения с оскорблением для болезненно-самолюбивого Сашки, на своей исключительности помешенного, своём уме, и придумать было нельзя: такое ему могло разве что в страшном сне привидеться. Он – в шоке, унижен и подавлен до крайности, взвинчен, агрессивен и зол. Он начинает активно дружка своего, выскочку беспородного, за глаза хулить и чернить: усиленно распускать вместе с матерью слухи по городу, что это он-де Стеблову на мартовских экзаменах все конкурсные задачи решил, и тот поступил из-за этого. Ему, мол, решил, а себе не успел; вот и остался по своей доброте на бобах: из-за того, мол, что дружбу выше всего поставил, выше выгоды личной…
Нервозное и язвительное, а часто и злое по отношению к себе поведение, которое регулярно встречавшийся с Сашкой Стеблов постоянно на себе ощущал, когда приезжал домой на побывку и к Збруевым в гости ходил, было ему неприятно, естественно.
«Я что ли виноват в том, – про себя всякий раз возмущался он, – что его в интернат не приняли? что на экзаменах прокатили со свистом? Не я те экзамены принимал, и не я ему низкие баллы ставил».
Но, повозмущавшись и погневавшись втихомолку на улице, он Сашку всегда прощал – потому что жалел его, понимая истоки его нервозности и агрессии; хорошо понимая также, что должно было твориться в его оскорблённой в лучших чувствах душе, в которую столичные экзаменаторы по сути дела взяли и плюнули. Вообще, он многое спускал Збруеву весь девятый класс, уступал в разговорах часто, великодушным стараясь быть, как и все победители.
Помогали ему здесь Москва, необъятной советской страны столица, и, конечно же, Московский государственный Университет, первый вуз мира, – такие величественные во все времена, неповторимо-прекрасные, мудрые, гордые; на благородство и милосердие щедрые, плюс ко всему, на особую столичную терпимость и теплоту, столичную же снисходительность. Они не позволяли ему дома нервничать и забывать про то, что он заслуженно стал москвичом, как-никак, и наполовину студентом; а, значит, и вести себя должен соответствующим образом: высоко держать столичную марку и не опускаться до зависти, злобы и склок, и выяснения отношений.
Он и держал, как умел, как ему совесть его подсказывала; равно как и воспитание, полученное от родителей. Поэтому и не обращал внимания, или старался не обращать на дружка неудачливого и его выходки дерзкие, предельно-ядовитые и нестерпимые порой. Ругаться с ним, ставить Сашку на место казалось ему делом низким и недостойным.
Друг его безнадёжно отстал и остался в прошлом. И чего на него, стало быть, повышенное внимание-то обращать, закомплексованного истерика, неудачника и невежду? Он всё больше превращался в карлика в глазах Стеблова, кто в Москве отчаянно и безрассудно великаном силится стать, гигантом мысли и духа…
Но даже и после этого Вадик не хотел прерывать отношений со Збруевым. Как не хотел он рвать отношений с домом, семьёй, родным городом – со всем тем, одним словом, с чем он был кровно связан. Он просто пытался, не торопясь и имея полное право на это, выстроить их отношения по-новому: с учётом тех реалий и изменений существенных, что с ним и с Сашкой произошли.
Реалии же таковы были, что он жил и учился теперь в Москве, интеллектуальном и культурном мировом центре. Советская столица, помимо прочего, дала ему счастливую возможность узнать много-много новых людей – по-настоящему и замечательных, и даровитых, увлечённых делом по-максимуму, “по-взрослому” что называется, – которые самолюбивому его дружку и не снились даже, пред которыми он был плебеем, духовным и телесным ничтожеством, абсолютным нулём.
И книжки Вадик начал читать и скупать диковинные, достаточно редкие, про которые провинциал-Сашка ничего не слышал, не знал; и задачи решать университетские, наитруднейшие; и информацией научной и околонаучной владел такой, о которой у оставшегося дома друга не было никакого понятия.
И получалось, что Вадик уже не нуждался в Сашке как в научно-познавательном “экскурсоводе”, советчике добром и информаторе, надёжном поставщике математических знаний и литературы. А другого в нём и не было ничего, увы!
Он даже и соратником-единоверцем быть перестал – после того как дома остался, а Вадик уехал учиться в Москву…
А коли так, то и незачем Вадику дальше притворяться было и делать вид, что он по-прежнему боготворит Сашку, большим математиком считает его, гением всех времён и народов; и уж тем более – своим духовным и научным вождём. Наоборот, он уже открыто стал показывать Збруеву, что ни тем, ни другим, ни третьим он его давно уже не считает, не желает считать. Он становился уже москвичом – и по местожительству, и по духу, и по всему остальному. А когда это москвичи лебезили и кланялись перед провинциалами!…
Эта-то зарождавшаяся столичность Стеблова прямо-таки бесила Сашку, сводила с ума, завистливым неврастеником делала, бякой и букой. Как бесили его проявлявшиеся всё больше и больше независимость и норов Вадика, его упорное стремление к равенству, к паритету личностному.
Сашка как мог сопротивлялся этому, отчаянно надстраивал под собой пьедестал до прежнего недосягаемого уровня. Но силёнок у него не хватало, совсем: он слабеньким от природы был, хиленьким. Отсюда – его злость и яд, наскоки нервные и уколы…
Вадик всё это терпел до поры до времени – и не обижался в открытую, не останавливал и не осаживал хамоватого друга, как тот того заслуживал по всем правилам и статьям. Потому что, повторимся, жалел его, и относился к нему весь девятый класс как к убогому и глубоко-несчастному человеку, за что-то обиженному судьбой.
А убогий – он убогий и есть. Взять с него, бедолаги, нечего. Убогих на Руси жалели всегда, потому как и Россия сама – подножие Престола Господня…
13
Сашкино время настало тогда, когда он, закончив девятый класс и перейдя в десятый, узнал в июне от приехавшего из Москвы Стеблова, что тот не собирается возвращаться туда, что будет оканчивать среднюю школу дома.
Вот когда оживился, воскрес и расправил плечи Сашка, и прямо-таки воссиял душой; и, одновременно, вознамерился взять реванш за обиды прежние, нешуточные, и унижения, за поруганную Вадиком честь.
Вернувшийся домой Вадик потерял в его глазах главный козырь – статус москвича; а взамен приобрёл иной – статус неудачника и нетяга. И это позволило Збруеву предельно раскрепоститься и распоясаться, набрать прежнюю силу и власть. Он буром попёр на возвратившегося ни с чем дружка, теряя чувство реальности, чувство меры. Он изо всех сил попытался поставить выскочку и гордеца Стеблова на подобающее ему место, какое он Вадику ещё в восьмом классе определил, и какое тот безропотно тогда занял. «Вот видите, – стал распускать он по городу слухи. – Я же говорил, что это я ему на экзаменах в интернат все задачи решил, что без меня его туда и на пушечный выстрел не подпустили бы».
Но слухи – слухами, обиды – обидами, подковёрные дела – делами, а счастья утерянного не вернёшь, как известно, и в одну речку не ступишь дважды. Вадик уже был не тот зелёный и скромный мальчик, каким его Збруев знал, каким держал подле, и становиться подстилкой Сашкиной второй раз он желания не испытывал. Интернат ему на многое глаза открыл: он вернулся оттуда совершенно другим человеком.
Да, он покинул столицу, спецшколу тамошнюю, и перестал на какое-то время быть москвичом, – но это ничего ровным счётом не значило, ни-че-го! Зато он понял прекрасно, как по прейскуранту прочёл истинную цену Збруеву, и выстраивать новые отношения собирался только лишь в соответствии с этой, реальной, ценой, а не с его желаниями и капризами, и амбициями копеечными, напускными, которым место было в детском саду, а уж никак не в школе. Да ещё и в последнем, выпускном классе, да после красавицы-Москвы. Капризы, амбиции и ежедневные взбрыки Сашкины он терпеть теперь не намерен был, даже и на время сравнявшись с ним в статусе, – решительно не намерен!…
Такое поведение Вадика было в новинку для Збруева, было ему, патологическому себялюбцу и гордецу, привыкшему к первенству в классе и школе, что нож острый. Как боль зубная оно его коробило и раздражало, провоцировало на агрессию, на борьбу, на расправу скорую и жестокую. На этой почве у них почти сразу же стали возникать конфликты, причём – конфликты довольно серьёзные.
И так же быстро, как в начале восьмого класса Вадик сблизился и сдружился с Сашкой, он приобрёл в начале класса десятого заклятого себе в его конопатом лице врага – злопамятного, подлого и упорного, как порточная вошь – вонючего. Хотя и мелкого и ничтожного, как всё та же вошь, про которую и рассказывать-то совестно.
Но и это было лишь полбеды и только часть неприятностей, что ожидали Вадика в выпускном классе на родине. Куда более страшным для него врагом оказалась Сашкина мать, Тамара Самсоновна, коварство и силу которой ближе к Новому году он испытал на себе в полной мере, которая нервы ему и его семье изрядно попортила и потрепала, память недобрую по себе на всю жизнь оставив…
Вообще же, странные отношения сложились в июне у двух закадычных прежде друзей, странные и противоестественные. Оба были вынуждены притворяться друзьями, делать вид, что друг в друге нуждаются, и по-прежнему не могут друг без друга жить, – но у каждого в тот момент лежало уже по большому камню за пазухой, каждый был глубоко недоволен другим, тяготился прежним товарищем, искал повода рассориться и расстаться. И достаточно было малой искорки, чтобы разразилась буря, способная кардинально всё изменить: сделать положение естественным и нормальным…
Такая искра меж ними вспыхнула скоро: недели через три по возвращении Вадика, – и случилось тогда вот что. Всегда страдавший физической немощью Сашка, о чём подробно рассказывалось в первых главах, по совету родителей решил за лето поправить здоровье, укрепиться перед десятым классом, где его поочерёдно ожидали выпускные и конкурсные экзамены. Укрепляться же он решил разными способами, в том числе – и посредством утренних пробежек. На них-то он и пригласил Стеблова, памятуя, что они оба в восьмом классе ещё проделывали уже подобный трюк, практиковались в беге трусцой в парке.
– Давай с тобой по утрам опять пораньше вставать начнём – кроссы бегать, как когда-то бегали, помнишь? – однажды предложил он отдыхавшему от интерната другу. – Жирок свой порастрясём, кислородом подышим, прохладой утренней, которая нас взбодрит, здоровьем и силой наполнит. Заодно и кровь погоняем по жилам, вены от шлаков освободим, что тоже для организма полезно, что нам на пользу пойдёт. У меня отец вон уже пару лет как бегает перед работой, не прекращает: а он ведь с нами вместе когда-то ещё начинал. Так ему потом заряда бодрости, как он утверждает, на целый день хватает.
Предложение Сашкино стало для Вадика сюрпризом пренеприятнейшим, и сразу же не понравилось ему, чуть-чуть покоробило даже. Начинать рано утром просыпаться опять после годовой муштры интернатовской, бежать в сырой парк спросонья и носиться там по аллеям кругами как двум собакам гончим – нет, это восторга в нём не вызвало ни грамма, скорее даже наоборот. За лето ему хотелось как следует выспаться в родном дому, на кровати родительской подольше понежиться-поваляться, от чего он на чужбине отвык. А тут нате вам: снова начнутся ранние подъёмы по будильнику, нервозность, суета, беготня. На кой ляд ему это всё было нужно – головоломная свистопляска такая? Какая от неё польза? Он-то уже набегался в Москве от души, набегался и навставался.
–…А чего обязательно утром-то? – пошмыгав носом и посоображав, все плюсы и минусы быстро взвесив, спросил он невесело Сашку. – Утром в парк и заходить-то страшно: туман как в финской бане стеною стоит, холодно, сыро, мрачно. Я же всё это уже проходил, когда лыжами занимался. Да и папаня твой подтвердит: спроси у него, если мне не веришь. Давай лучше бегать днем, если так бегать хочется. И выспаться успеем оба, и тепло уже будет, солнечно.