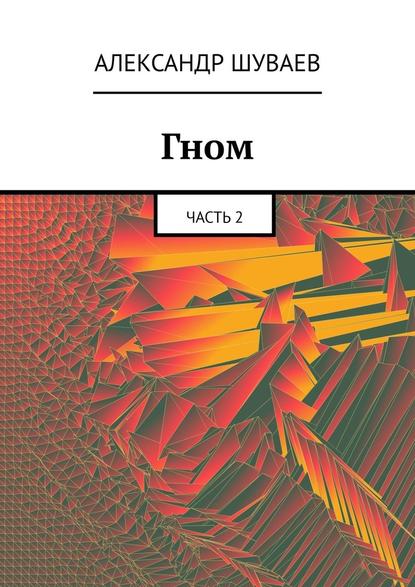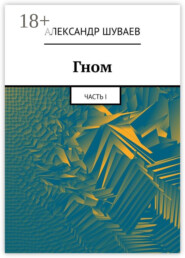По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гном. Часть 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Немецкие солдаты! Гитлер – мертв, – говорилось в листовках, которыми были буквально засыпаны все мало-мальски значительные группы немецких войск, – он, вместе с рейхсминистром пропаганды Й. Гебельсом, погиб в бомбоубежище при рейхсканцелярии во время воздушного налета 9-го августа. Вам больше некому служить и вы больше не в состоянии защитить кого-либо. Те, кто не верят в наше сообщение, обращайтесь к офицерам.
Немецкие офицеры! Получая приказы на продолжение бессмысленного сопротивления, убедитесь в полномочиях тех, кто их отдает. Не расстреливайте своих товарищей и не давайте расстрелять себя, потому что со смертью Гитлера его преступные директивы об упрощенном судопроизводстве утратили силу. Ваши жизни понадобятся новой Германии, вам самим, и, главное, вашим семьям.
Солдаты вермахта! Не подчиняйтесь приказам должностных лиц СС, поскольку они более не имеют законных полномочий распоряжаться личным составом армии.
Призываем вас прекратить бессмысленное сопротивление, сложить оружие и оставаться на месте до прибытия представителей командования Красной Армии, уполномоченных принять капитуляцию, а также оружие и боевую технику. Попытки какого-либо перемещения будут пресекаться огнем артиллерии и ударами с воздуха.»
На другой стороне листовки красовались две черно-белые фотографии очень высокого (позаботились!) качества. Остатки рейхсканцелярии, на первом плане – противоестественно перекошенный, угрожающе нависший, закопченный прямоугольник фрагмента стены с имперским орлом на самом верху. Кратер с оплавленными краями на первом плане, с двумя человеческими фигурками для масштаба, на фоне того, что осталось от рейхсканцелярии.
Листовки тихо, как первый снег, сыпались и на стопятидесятитысячную армейскую группу окруженную в районе Котбуса, и на части, спешно занимающие позиции на передних и задних скатах Зееловских высот, и не очень понимающие, что именно им приходится защищать. После грандиозной ночной бомбежки, сокрушившей город, почти непрерывно продолжались бомбежки не столь масштабные, но предельно методичные, переводившие на щебень то, что еще возвышалось. Чудо: каждый раз после этого что-то еще все-таки горело. Судьба эсэсовских частей, занявших оборону в лесном массиве к северо-западу от Берлина, оказалась особенно страшной: они почти в полном составе погибли в грандиозном пожаре, уничтожившем лес. Даже те, кто сами и засыпали его тысячами напалмовых бомб в жарком августе 1943 года, – аккуратно, от опушки – к центру, – говорили: «Врагу не пожелаешь».
Берлинское (или где оно находилось на самом деле?) радио и впрямь что-то молчало уже который день.
А вы и поверили? Разве можно верить врагу? Фюрер уже давным-давно прорвался в Тюрингию и будет руководить сопротивлением из неприступного убежища в горах. Как, вы разве не знаете? Ханна Райч вывезла его на особом самолете с ДВОЙНЫМ двигателем, более быстром, чем любые истребители. Да никакая не шлюха Райч, а генерал Бауэр. Чушь. Да, фюрер улетел, но не в Тюрингию, а в Гватемалу, а дальность у того самолета 11473 километра. Эх, вы, наивные. Не в Гватемалу, а в Англию.???!!! А чего вы удивляетесь? Думаете, Гесс даром, так просто туда улетел? Не-ет, у фюрера с Черчиллем давно все обговорено. Чтобы, значит, большевикам в Германию хода не было. Бабьи сказки. Фюрер действительно улетел, но его самолет сбили «Хвостатые Иваны», и никто не спасся. Причем тут самолет? Да вы знаете, сколько под Берлином секретных тоннелей нарыто? Раз в двадцать больше, чем открытых. Есть прямой до самых Альп, а есть до секретной базы подводных лодок. Хорошо. Спасся или не спасся, а все равно не командует. Ты думай, что говоришь. Да я про то, что из той дыры, может, и связи никакой нет. Пока протянут, – это ж сколько времени пройдет? Не-ет, камрады, а фотография все равно страшная какая-то. Агитация, не верю. Ты в Берлине бывал? Видел? Нюхал, чем пахнет? А я видел, и с тех пор во все верю. Ладно, фюрер или не фюрер, а нам-то что пока делать? Ты солдат. Вот и исполняй свой долг, как солдат. Я солдат старый, и вижу, что мы сидим в собственном дерьме посередине голого, как плешь, поля, где, как ни крути, не укроешься. Ты не понял, камарад, это такая тевтонская военная хитрость: навалить кучу до неба и, значит, в ней укрыться. А артиллерия наша где? На дороге оставили? Между прочим – траншеи еще до нас выдуманы. Вот угостит нас «иван» «супом с клецками», горя-аченьким таким, – пробовал? – много тебе эти траншеи помогут. Только что на похороны тратиться не придется. Слушай, – иди, и сдайся! Только не смерди тут. Посмотрим, кто в первых рядах сдаваться-то пойдет. Уж точно не я. Не знаю, как у вас, а наш лейтенант на позиции все реже появляется, с прочим офицерьем пьет все время, не просыхает. А я с ним второй год, на него не похоже. А оберста так и вообще давно не видно. Михель, ординарец его, ну рыжий такой, знаешь? Говорил, что герр оберст давеча цивильный костюм примерять изволил, и не один. Вот так-с! А жратву с утра не привозили, и патронов… А, что там говорить! … А правда, – чего мы ждем-то?
Сухая глина под ногами, нынче истолченная отчасти в пыль, на уголь сожженная роща слева, пахнущая горькой гарью, только редко-редко торчат превращенные в черные столбы самые крупные из деревьев. Черное от гари, седое от пепла поле. Стертые до нераспознаваемости руины на ближайшем холме и что-то, вроде бы, поодаль. Пологие балки с угольно-черными берегами, как будто по ним протекли реки огня. Что за место? Да какая разница. Где-то в Германии. Как-то называлось, за что-то получило имя. Теперь умерло, и имя умерло вместе с ним. Больше некому называть и нет ничего такого, что дало бы новое название. На карте, понятно, какое-то название имело место, но теперь и карта врет. Приехали эсэсовцы, взорвали трехсотлетнюю запруду, помешала она им, чтоб, значит, затопить местность перед наступающими частями красных, вот только вода в два счета утекла сухими балками между холмов. Были они в небольшом числе и, судя по всему, тяжело, застойно пьяны. В том самом состоянии, когда алкоголь проявляет себя только некоторой замедленностью неестественно точных движений, мрачным ожесточением и непоколебимой уверенностью в том что твои решения, даже самые идиотские, являются не только наилучшими, но и единственно возможными. Мельком, – чтоб не вызвать приступа смертоносной ярости, – глянув в страшные, налитые кровью глаза одного из таких деятелей, оберфельдарцт Циммерман содрогнулся. Он утверждал впоследствии, что один только алкоголь такой картины дать тоже не мог, и имело место еще что-то, первитин, фенамин, морфий или смесь того и другого. Очень может быть, но, с другой стороны, – это смотря сколько выпить. Нормальных солдат их присутствие радовало примерно так же, как пребывание в непосредственной близости хрипящих от злобы цепных волкодавов без привязи и намордника. Прибыв, они первым делом пристрелили троих каких-то бедолаг в обтрепанной форме (одного явно ненормального). Судя по всему, именно с этой целью их и привезли. Потом, как было сказано выше, взорвали запруду, а, проделавши все это, начали выискивать, к чему придраться еще. Им не нравился внешний вид людей, уже который час подряд копающих траншеи в сухой и твердой, как саман, глине. Их совершенно не удовлетворяла опрятность солдат, поскольку «внешний вид воина великой Германии должен быть безукоризненным в любых обстоятельствах». При этом от говорившего уже метра за полтора несло сложной смесью ароматов, среди которых главными были перегар, свежак, тухлый лук, заношенные носки (пахнут ни капельки не лучше портянок и даже онучей), прокисший пот, прелая моча, присохшее прямо в заднице дерьмо – и прочее, но уже по мелочи. Им казалось, что у фолькс-гренадер 16-й дивизии недостаточно высокий моральный дух, и поэтому они всё требовали огненной ненависти к большевистским полчищам и фанатической преданности идее.
Они были не вполне справедливы к своему командиру. Впрочем, это характерно для всех подчиненных, вне зависимости от нации или эпохи. Лейтенант Панновиц, будто почуяв что-то, прибыл к месту действия, на ходу зачем-то напяливая каску и дожевывая. Около двух минут он, как истинный знаток, слушал лекцию о несгибаемом упорстве и преданности Фюреру даже с некоторым удовольствием, но потом на лице его отразилась откровенная скука. Он понял, кто перед ним.
– Шли бы вы отсюда, – проговорил он, наконец, с мучительной тоской, – а то, не ровен час, «иван» придет. Это вам не кацетников мордовать. Запросто можно пасть смертью храбрых в духе фанатической преданности, и Рейх потеряет еще нескольких образцовых арийцев. Вполне может, кстати, не пережить такой потери.
– А-а-а, – почти завизжал унтершарфюрер, – вот вы чего хотите на самом деле! Избавиться от нас, чтобы удобнее было перейти к русским, когда они придут сюда? Поди, – у каждого припрятана эта мерзость? – Он поднял над головой скомканную листовку, ту самую, с фотографиями. – Так?! Ф-фсе вы тут…
Он не договорил, потому что еще один из его команды, криворотый недомерок, который до сих пор не сказал ни единого слова и только в явном изумлении озирался по сторонам, вдруг каким-то птичьим движением вытащил «люггер» и выстрелил лейтенанту в живот. Сбило с толку и помешало старому фронтовику отреагировать должным образом то, что у стрелка двигалась одна только рука, отдельно, так, что остальное тело сохраняло неподвижность. Это было так дико, что на миг замерли все присутствующие, даже эсэсовский проповедник, резко обернувшись, замер с открытым ртом. По-другому отреагировал один только Клаус Эйдеманн по кличке «Штихель». Бог его знает, как у человека получалось опираться на «МГ – 42», будто его и вовсе нет. В смысле – и Штихеля, и пулемета. Плотная струя пуль ударила по эсэсовцам, как бьющий наотмашь лом, как взмах косы в руках самой Костлявой. Нелепо взмахнул руками, подлетел и рухнул на спину непрошеный проповедник, он стоял ближе всех, и потому очередь буквально выпотрошила его. Изломанной куклой кувыркнулся на бок и затих криворотый убийца. Человек, не расстававшийся с пулеметом уже четвертый год, Клаус срезал всех «черных» практически в одно экономное движение, но последний все-таки был застрелен в спину и на бегу. Так и сунулся вниз лицом, с вытянутыми вперед руками.
– Оберсту, – прошептал сереющими губами Панновиц, – оберсту доложите. Скажите, что переодетые диверсанты…
Немцы есть немцы, – они и пошли, и нашли, и доложили. Оберст есть оберст, – он пришел. Да, взгляд устремленных в непостижимые дали глаз был несколько стеклянным. Да, шаг мог бы показаться кому-то слишком чеканным. Но так – полный ажур, не подкопаешься.
– Так, – проговорил он, покачиваясь над свеженькими трупами на носках ослепительных сапог, – взад-вперед, взад-вперед, – трусы-паникеры-истерики? Педерасты? Тогда все правильно. Содомиты – мерзость перед лицом Господа…
Дело в том, что он не был немцем, а, наоборот, австрийцем и католиком. И к его безукоризненно сидящей форме со всеми регалиями очень шел немыслимого совершенства кремовый котелок.
Падаль в вонючих черных мундирах без церемоний покидали в овраги, чтоб не смердели потом.
Из-за холма, едва не задевая развалин на его вершине, стремительно вылетел одиночный штурмовик, пролетел над передним краем на ультрамалой высоте, а потом развернулся в глубоком вираже и ушел на восток. Это, безусловно, радовало, но и смущало. Радовало по вполне понятной причине: к этому времени даже одиночный штурмовик русских мог причинить страшный урон. Два контейнера «елочных игрушек», – так их прозвали солдаты за круглую форму и стеклянные поражающие элементы, – запросто могли дать до полутысячи убитых и, главное, раненых, потому что ни окопы, ни щели не давали эффективной защиты от мерзких колобков, раскатывающихся по местности. «Полевой вариант» контейнера отличался большим, девяносто пять процентов, содержанием бомб, которые взрывались через минуту-полторы после рассеивания и только около пяти, имеющих отсроченное действие. У того самолета, который пренебрег ими, на подвесках было что-то очень похожее, и он мог бы устроить им веселую жизнь. А он не стал.
Что-то неподходящее для нашего брата, вот как. Да нет, видно, «коровы» обнаружили подкрепление на марше, туда полетел. Идиот, тогда был бы десяток. Я понял, камарады, это они нашу кухню обнаружили. Да, тогда в самый раз будет. Вот мерзавцы, – в самое больное место норовят. Уж этого я «иванам» точно не прощу. А не мешало бы пожрать. А ты что – хочешь, что ли? Ну-у? А нету! Ах, ты! Плохо еще, что орудий ни одного. А тебе что, – надо? Что, опять скажешь «нету»? Почему? Есть. Неподалеку, километров восемь отсюда, на обочине. Целенькие, даже снарядов ящиков пять. Только «чума» лошадей побил, а тягачи еще раньше побросали. Сбегал бы, прикатил. Это ты у нас, как першерон, а у меня кость тонкая.
– Гальбе, – ожила вдруг давным-давно молчавшая рация, и герр оберст вздрогнул, потому что голос принадлежал не кому-нибудь, а самому Вильгельму Кейтелю, – где вас носит черт, у вас бардак со связью, слушайте, Гальбе, спешно готовьте позиции, на вас движется колонна русских, предположительно из состава пятой гвардейской армии, с усилением… Держитесь там, вы сейчас одни прикрываете южное направление, но помощь идет, слышите? Что вы там бормочете? Откуда сведения? Обыватели донесли, по телефону между прочим, у них со связью бардака нет, докладывайте, что там у вас как…
Когда тебе прямо вот так, на полевую станцию передает указы и требует доклада целый генерал-фельдмаршал и бессменный руководитель ОКВ по кличке «Лакейтель», значит, дела и впрямь плохи. Хуже, чем кажется, а это надо суметь.
– Личный состав 4256 человек, причем линейного состава боевых частей 1862 фольксгренадера. Горючего нет, артиллерия утрачена, автотранспорта нет. Стрелковое оружие почти по штату, боеприпасов примерно по десять патронов на ствол. Связи до этого сеанса не имели двадцать восемь часов. Продовольствия – сухой паек на сутки. Все.
– Это не доклад, Гальбе, а черт знает что! Кто сосед с левого фланга? Кто сосед с правого фланга?
– Выясняем, господин генерал-фельдмаршал. – Бессмысленная болтовня надоела оберсту, и он решил прекратить ее самым надежным образом. – А скажите, господин генерал-фельдмаршал, а это правда, что Фюрер погиб при воздушном налете?
– А? Что вы там такое говорите? Почему, черт возьми, ничего не слышно?
Голос начальства, как и ожидалось, начал стремительно слабеть, после чего, как и ожидалось, связь прервалась. С концами. Значит, правда. Или от правды неотличимо. Он добавил из фляжки и созвал оставшихся командиров остатков оставшихся батальонов. Сообщил им примерное содержание сеанса связи и вопросил.
– Ну? Вы слышали? На вас одних, засранцы, оказывается, вся надежда. Тут-то мы и остановим большевистские полчища и повернем ход войны вспять. Начальство нам доверяет и это, понятно, высокая честь. Вопросы?
– Герр оберст, а на нас-то кто?
– Сущие мелочи, не стоит внимания. Какая-то там Пятая Гвардейская общевойсковая. Правда, – с усилением, но тоже ничего особенного. Какие-нибудь два-три мехкорпуса, танковый корпус из 3-й Танковой, пара полков тяжелых самоходок и еще что-нибудь, по мелочи. А теперь я лягу спать, а вы – марш к солдатам. Если что – разбудите…
Да нет, не может быть. Если б правда, то давно прислали бы авиацию. Точно, от нас, по идее, сейчас были бы одни клочки. Тем более, что этот нас видел. Мог не передать. Брось, камрад, у «иванов» со связью все в порядке, а за такой зевок у них без разговоров ставят к стенке. Нет, точно вранье. Нечего им тут делать. А придут, – так что ж делать? Будем драться. Поляжем тут, но не отступим… Полечь, – это да, это запросто. Жаль только у саперов сто двадцать мин на все – про все, а «колючки» нет вовсе… Тихо!
Куно Мюллер, егерь из Тюрингии, поднял веснушчатый палец и буквально насторожил слегка оттопыренные уши. Не вот, но довольно быстро разговоры смолкли, прислушались и все остальные. Что-то вроде… Да нет, померещилось. Да нет, точно. Отдаленный, но все более слышный рев тысяч моторов и зловещий, смертный лязг бесчисленных металлических сочленений.
То, что имело выйти на них через полчаса, только отчасти развернулось в боевые порядки. Основная часть бесчисленных машин остановилась в поле, как следовала, походными колоннами. Очевидно, они уже вовсе ничего не опасались. Зато то, что развернулось, остановившись мерах в четырехстах от передней, видимой, как на ладони, траншеи, действительно заслуживало внимания. Громоздкие, уродливые машины, собранные явно на базе тяжелых или даже сверхтяжелых танков, вместо честных орудий – какие-то обрубки с насадками на конце, и еще пара коротких стволов, поменьше. И по бокам корпуса тоже приварены какие-то коробки. У другого варианта из-за глухой, с двумя пулеметами рубки торчит несколько коротких, толстых стволов, глядящих почти вертикально, с легким наклоном. А еще и у того, и у другого варианта имелись тяжеленные катки впереди, и дополнительно наваренные экраны брони где только можно.
– Только не вздумайте стрелять, – побелевшими губами прошептал обер-ефрейтор Краус, – ради бога, – только не стреляйте.
Панновиц, на которого оберфельдарцт не пожалел полноценной дозы морфия, приподнялся, глянул стеклянными глазами и прошептал.
– Не стреляйте. Узнайте, чего они хотят, разбудите оберста, что хотите, – только не стреляйте. А то в живых никого не останется. И костей не сыщут. Я такие штуки видел в Восточной Пруссии…
Это он правильно сказал. «Штуки» были типичным оружием конца войны. Мало пригодным при равной игре, но очень полезным для того, чтобы добить подранка без риска окарябаться. Фигурально выражаясь, не меч с копьем, а колода-«гасило» для сплющивания доспехов, молот-чекан для разбивания шлемов, мизирикордия для засовывания в щели лат – лежащих, спешенных с коней или сбитых с ног, не могущих подняться. Тяжелая огнеметная система «Факел» и тяжелый 190-мм шестиствольный миномет «Штамп». Дальнобойность довольно убогая, но вот так, при отсутствии противодействия и на короткой дистанции, страшнее ничего не придумано. От падающих вертикально мин в шестьдесят килограммов весом, от вязкой огнесмеси, в один залп накрывающей тридцатиметровый круг, защиты не существует. Гибнут даже железобетонные доты: блокированные, задымленные, выжженные в упор, прямо через амбразуру.
Никто и не стрелял. Увидав воочию, с чем, на самом деле, им придется воевать, не стали делать глупостей даже самые фанатичные. Это было не столько страшно, сколько как-то нестерпимо глупо, даже стыдно Если и нашлось несколько истериков, стрелять без приказа им просто не дали, вывернув оружие из шаловливых ручонок и дав по шее. Что за детство, на самом-то деле. Боя не вышло бы в любом случае: противотанковых орудий у них нет, а если бы и были, то глухие, лишенные обычных слабых мест лбы этих уродов как раз и рассчитаны на то, чтобы ПТО не пробивали их НИ НА КАКОЙ дистанции. Гаубицы на прямую наводку, – пожалуй, но их нет. Еще приятно вспомнить тяжелые самоходки…
…При первом же выстреле они просто двинутся вперед, методично засевая минами и заливая огнем все перед собой, пока не угробят всех. Но, скорее, это люди на позициях не вынесут смертного ужаса, безнадежности и жалости к самим себе, после чего попросту побегут, как безумное стадо, чтобы бесполезно полечь под сотнями пулеметов.
Там, на той стороне, кто-то махал белым флагом, предлагая принять парламентеров. Панновиц молчаливо опустил веки, и его подчиненные дали отмашку. Все было просто, и все было ясно, и ни к чему думать, оставалось только совершать естественные и единственно возможные действия. К траншее подкатил, лихо развернувшись «РДМ – 1», так называемый «крокодил», машина новая, относительно редкая, но виданная уже довольно многими. Три пары колес, легкая неметаллическая броня от пуль и осколков, мощный двигатель и очень хороший обзор: толстенные скошенные стекла держали пули даже крупного калибра, и уж во всяком случае не уступали броне прочностью. Хамское изделие: пуль не боится, из пушки не попадешь, ни на чем, даже на «цундапе», не догонишь и не уйдешь, противопехотных мин не боится, а противотанковые не взводит из-за легкости конструкции и широченных колес. По причине этакой своей безнаказанности, «крокодил», даром что техника, уклончиво-наглыми манерами более всего напоминал шакала. Вышедшие из машины офицеры, на первый взгляд, были похожи, как братья. Невысокие, плотные, довольно-таки белесые, в одинаково, чуть набок сидящих пилотках, страшно серьезные от молодости. Было лейтенантам лет по двадцать – двадцать два, но повоевать успели, на плотно обтягивающих грудь гимнастерках виднелись по три-четыре медали и по красненькому ордену. Оберст есть оберст: он был здесь, без признаков стекла в глазах и в фуражке на порядочно седой голове, и со спокойным любопытством смотрел на сопливых парламентеров.
– Кто уполномочен вести переговоры, – лейтенант говорил по-немецки хорошо, чувствовалось, что это его родной язык, но сама речь была какой-то странной, архаичной что ли, – с германской стороны?
– Можете смело говорить со мной. Вариант не хуже никакого другого.
– Командование шестого гвардейского танкового корпуса предлагает капитулировать на стандартных условиях и, главное, – побыстрее освободить дорогу походным колоннам.
– А если нет?
– А если нет, герр оберст, то хватит вашего воинства минут на двадцать, не больше. И это никому не нужно. Ни нам. Пока развернемся, пока дадим залп или два, а время дорого. Ни вам, потому что сгинете без всякой пользы…
Что-то насторожило немца, и он пригляделся к офицерику внимательнее. Он не так молод, как хотел показать. И глаза не двадцатилетнего пацана. Пусть даже ветерана. Еще раз, уже откровеннее глянул ему в глаза, и тот, не отводя взгляда, осторожно сложил губы колечком. Совершенно так, как делают, собираясь сказать международное: «Ш-ш-ш!».
– Хорошо. Я сейчас прикажу открыть проход. Предлагаю обсудить условия у меня.
– Это правильно, – кивнул сомнительный лейтенант, – и пригласите ключевых командиров. Практика показывает, что это позволяет многое сделать проще, быстрее и с меньшим количеством недоразумений.
Да, организация капитуляции возложена именно на него. Сдать следует все автоматическое оружие, а один карабин из десяти следует оставить. Да, были случаи, когда на решивших закончить боевые действия нападали небольшие группы сумасшедших фанатиков. Что? Нет, не опасаемся. И не видим большой беды в том, что кто-то уйдет домой. Да, без винтовки. Только учтите, что дома нечего есть, а кто будет скрываться, не получит продовольственную карточку… Нет, меня сложно обвинить в предательстве, потому что моя семья живет в России двести пятьдесят лет, а Германия для меня совершенно чужая страна. В Сибирь? Не знаю. Может быть кто-то, со временем. Сейчас слишком много работы здесь, транспорт уничтожен, начинается голод, и если не наладить хозяйство, скоро начнется голодный мор. Не бойтесь Сибири. Мы оба оттуда родом и, честное слово, очень хотим домой. Выданный вам пропуск действителен, только если вы идете в правильном направлении, отмечаясь на всех контрольных пунктах… Что? Просите оставить пулемет до прибытия к месту назначения? Ладно, в виде исключения. Как фамилия? Эйдеманн? Так и запишем. Что? Нет, американцы не высадились, и лучше не рассчитывать, что высадятся.
Оберст отправил офицеров к солдатам, знаком попросив русского задержаться. Он безошибочно определил в нем настоящего специалиста по части организации и приема капитуляций, причем, похоже, специалиста высококлассного. С таким разговор может и получиться. Вполне.