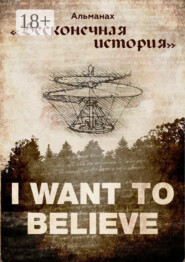По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жернова времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я замахнулся. Вспомнил всё, что знал, читал, видел и слышал о нацистах и войне, о концлагерях и о геноциде, и зажмурился. Потом разжал веки и внимательно посмотрел на младенца, который с не меньшим вниманием взирал на меня. Ох уж эти младенцы, они такие милые создания, особенно когда не плачут, не гадят и не заблевывают всё вокруг мерзко пахнущей белой гадостью. И этот паренек был чрезвычайно милым. Видимо, нацистская дисциплина была привита ему с молоком матери.
– Считаю до трех, и спасать мир уже будет поздно, – шепнул шляпник.
– Всё равно, так нечестно, – сказал я, когда снова очутился в черной комнате с занесенным над головой портфелем. – Я не предлагал богу убивать младенцев.
– Для бога нет разницы, – ответил мой воображаемый собеседник, – каким именно образом вмешаться в жизнь людей, которые не хотят этого. Что смерть, что Кордильеры – это насилие и нарушение священного принципа – свободы воли. Бог не для того дал вам свободу.
– Ладно, я понял – геноцид – это наше дело, – махнул я рукой на этого непробиваемого фанатика. – Ты меня не убедил, но, оставим твою шаткую логическую конструкцию в покое. Но, как же потоп? Или казни египетские? Если верить Ветхому завету, всё это непосредственное вмешательство бога в жизнь людей.
И тут же оказался за рулем своего небольшого грузовичка в паре кварталов от дома. Какой-то придурок сдавал назад из крохотного переулка, зажатого между высотками, и грозил врезаться прямо в мою дверь. Поэтому я, обругав его, тоже врубил заднюю передачу и сразу почувствовал легкий толчок. Выглянув из кабины, я увидел глупую девчонку, лежавшую на дороге. Маленькая слепая идиотка мало того, что не смотрит по сторонам, так еще и, наверняка, что-нибудь повредила, ударившись о мой кузов. Вон, уже верещит. Тупая маленькая тварь, заткнись!
У нас на заводе один водитель так влез в огромные долги. Задел на переходе старика, и уже пятый год оплачивает ему лечение и медсестру, катающую столетнего пройдоху на коляске по парку каждый день. Продал квартиру, жена его бросила, ушла к жирному лавочнику, жившему в его доме. А бедный Вань Ган ютится в клоповнике на окраине Биньчжоу и ест один топинамбур.
Я сдал чуть вперед, чтобы маленькая глупая девчонка смогла выбраться из-под кузова, но сразу же представил себя в пожизненном рабстве у её родителей, настолько тупых, что не научили ребенка выбирать безопасные места для игр. Представил Жуань, укоризненно смотрящую на меня, и её огромный живот, из которого уже через месяц должен был появиться маленький Ю… Разве мог я позволить какой-то глупой дурочке лишить мою семью будущего?
Сдав назад, я почувствовал, что заднее колесо подскочило. В зеркале заднего вида было видно, как девочка дрыгает ножками, пытается отползти назад. Это всё из-за того, что я еду со смены порожняком. Задняя ось совсем не нагружена…
Они живучие. В прошлом году Ти Мучьжи рассказывал, как он раз пять переехал женщину, прежде чем она, наконец, издохла. Зато, всего 170 тысяч юаней компенсации семье, и никакого долгового рабства. Да, пришлось взять кредит… Ну ничего, я тоже возьму кредит.
Проклятье, даже после пятого раза она всё еще шевелилась. Я с ужасом заметил, что последний раз её развернуло вдоль тротуара, и она, отчаянно вереща, тянулась к бордюру. Нет, определенно нужно давить её передним колесом. Да, вот так. Вот теперь, когда её маленькая головка взорвалась переспелым арбузом, расплескавшись по асфальту, можно смело вызывать полицию и скорую помощь…
– Аааааааааааааа!
До меня не сразу дошло, что протяжный хриплый вопль принадлежит мне.
– Ааааааааааааааа! – это я вопил уже вполне осознанно.
Затем, используя семь грязных слов в самых разных вариациях, я поинтересовался у невозмутимого шляпника, что это сейчас было.
– Поместил тебя в шкуру обычного работяги из Китая, – ответил тот. – Немного перенес в будущее, лет на тридцать. Так такое в порядке вещей.
– Как такое может быть в порядке вещей?! – взорвался я, швыряя в темноту портфель. – Это какое-то извращение!
– Ты был им. Ты мыслил его категориями. Неужели ты не понял, почему он так поступил?
– Аааааааааа! – заорал я снова от ощущения сверхъестественного ужаса, овладевшего мной.
Потому, что понял. Понял бедного работягу, вкалывающего по двенадцать часов ради своей беременной жены и будущего ребенка, ради своего маленького счастья, и это понимание было самым ужасным, что я когда-либо испытывал в жизни. После ножа в животе и закипающей в легких крови.
Черт возьми, я был этим китайцев, раз за разом переезжающим маленькую девочку, чтобы отделаться сравнительно небольшим штрафом. И я не видел в этом жестоком и четко осознаваемом убийстве ничего противоестественного. Никакой жалости, никаких сомнений. Только ненависть к ребенку, по вине которого я мог лишиться всего.
Я орал снова и снова. А голограмма Земли остановилась и над Китаем зажглись тысячи маленьких телевизионных экранов, на которых различные транспортные средства методично по нескольку раз переезжали людей. Взад-вперед, взад-вперед. Один старик встал и попытался отойти, но большой минивэн догнал его и вмял в стену. А потом еще раз. Водитель вышел, проверил, жив ли он. Потом на него набросились родственники старика, которых он, на свою беду, не заметил.
– Поделом, ублюдок, – прошептал я.
В следующую секунду я подбросил в воздух шестимесячного младенца и ловко отбил мотыгой. Разбрызгивая кровь и мозги, он со смешным бульканьем пролетел мимо дерева, в которое я метил.
– Опять не попал, – разочарованно пробормотал я.
– Хватит развлекаться Чхун! – окликнул меня бригадир Сарин. – Добивай своих и иди помогать сюда! К вечеру должны прийти еще горожане!
Чертовы горожане. Наверное, им неприятно было идти пешком, босыми ногами протаптывая дорогу в джунгли. Кичливые интеллигенты, решившие, что раз надели очки и прочли пару книжек, то им теперь можно есть из фарфоровых тарелок, пока моя семья по пояс в болоте растит для них рис. Вот тебе, мерзкий эксплуататор. Вот тебя, вьетнамская подстилка. На, жри мою мотыгу! Как смешно и легко лопаются их черепа. А если сунуть мотыгу в рот и провернуть, можно вырвать нижнюю челюсть, и мозга вытекает прямо через рот…
Да здравствует свободный народ Кампучии! Да здравствует брат номер один!
– Да здрав… – я осекся на полуслове и немигающими глазами посмотрел на шляпника.
– Это будет через шесть лет в Камбодже, – пояснил он.
– А это через пятьдесят лет в Леванте…
После Леванта я бросился на него с кулаками, но он отправил меня в шкуру очередного негодяя, даже не осознававшего своей сущности.
Два раза я побывал во Вьетнаме. Сначала в вьетконговцем, отрубающим руки привитым детям. Потом – рейнджером, с улюлюканьем поливающим пулеметным огнем забитую людьми деревенскую школу. Был арагонским наемником, вырезающим благоверных католиков во французской деревне, чтобы после переоблачиться в крестоносца, закидывающего членов катарской семьи одного за другим в пылающий дом, чтобы очистить их души. Рубил мачете черных, как уголь, людей, которых гнали и гнали на стадион, а я рубил и рубил, пока не отнялась рука, из-за чего мне стало очень стыдно перед друзьями за свою слабость, и я расплакался. На спор перерезал горло заключенным всю ночь, поскольку немецкий оберст пообещал мне золотые часы, если я смогу преодолеть потолок в тысячу сербов…
И этот круговорот всё больше засасывал меня. Неведомая сила бросала меня из тела в тело, из разума в разум, чтобы, отрыгнув в черную реальность и дав осознать ужас произошедшего, продолжить это извращенное истязание. Я мстил, ненавидел, спасал, любил, испытывал удовольствие и боль, насиловал, убивал, калечил, пытал, ставил эксперименты… А потом меня словно растянули на дыбе и подвесили над стремительно вращающимся голографическим земным шаром, с которого к моему лицу, к моим ушам и к моему разуму тянулись мириады крохотных телевизоров. И то, что они показывали, заставляло меня кричать, срывая голосовые связки, харкать кровью и биться в исступлении. Но, сверх ужасных вещей, что творились каждый миг на Земле, воздух наполнился самым большим хором, который я когда-нибудь слышал. И голоса в этом хоре, перекрикивая друг друга, молили о мести, о смерти, о жестокой расправе над обидчиками, о смерти, о жалости, и вопрошали бога, где он…
– Что вы делаете, мистер Фелпс, – спросил седой мужчина, одетый в старомодный сюртук, с чудаковатым цилиндром на голове.
Я даже не обернулся. Я был слишком занят. Но мужчина настойчиво повторил свой вопрос, и мне пришлось крикнуть, чтобы он убирался и не мешал.
– Разве это не жестоко, убивать всё человечество? – спросил он без тени иронии в голосе.
– Они обречены, – прорычал я, и в моей памяти всплыли три сестры, погодки, грязные, голодные, скованные цепями, которые испуганно смотрели на меня из подвала, когда я приволок к ним новую подружку из соседнего городка. Нет, не я… Или я? И это сладкое, липкое, благоухающее удовольствие, разливающееся по моим внутренностям от мысли, что они только мои, и никто в целом мире больше не обладать ими, так, как делаю я…
Внезапно я посмотрел на свои руки, жмущие на большую красную кнопку. Кнопку, отвечающую за уничтожение Земли. В пламени. Потому что я пообещал старому ковчегостроителю больше не насылать потоп, а моё обещание было непоколебимым. Что ж, пламя, так пламя. Всего лишь сделать из Солнца сверхновую. И больше не повторять глупой ошибки. Не давать свободную волю. Чтобы мириады душ, наконец, избавившись от бренных тел, преисполненных болью и страданиями, вознеслись в мир чистый и понятный, в котором нет места ни любви, ни ненависти, ни добру, ни злу… Конечно, мой сын будет протестовать. Не для того он прошел тем путем, чтобы я уничтожил плоды его трудов. Ну, ничего. Он доказал мне, что может, и что есть некоторые из людей, кто достоин выбирать. Пусть довольствуется вечностью в их компании…
– Ну что, мистер Фелпс, каково быть богом? – поинтересовался шляпник, с любопытством разглядывая торчащий из моего живота нож.
Я осмотрелся. Немного поразмыслил. Нащупал в глубине сознания ноющую ссадину от какой-то невыраженной идеи, неуловимо мечущейся между скользкими пальцами моего разума. И вспомнил охваченную огнем Землю. Моим огнем. Посмотрел на застывшую в зверином оскале рожу моего убийцы, и сказал:
– Если всё так очевидно, почему богу не поселиться в Вашингтоне, или на Олимпе, и не творить каждый день чудеса, попутно призывая людей к добру?
– О, легко каждый день спать с новой девушкой, если ты миллиардер. Только кто ж тебя полюбит? – с горькой усмешкой произнес шляпник.
– И что мне теперь делать? – спросил я. – Мне известно, что бог есть, и что все эти басни – не басни. Мне что, книжки писать душеспасительные? В монастырь уйти?
– А зачем мне это? – удивился мой собеседник. – Да и тебе ничего особо не известно. Мы разобрали всего одну тему – жестокость бога. Остальные уж как-нибудь сам осиль.
– Всё равно, непонятно, – настаивал я, пытаясь проникнуть в мысли шляпника, глядя ему прямо в глаза, поддернутые странной дымкой. – Столь эффектной демонстрацией вы, в сущности, указали мне на то, что не стоит публиковать мою книгу. Это ли не посягательство на свободу выбора?
– Шутишь? Как это, не публиковать? Ты с ножом в животе стоишь! – старик расхохотался, держась за трясущийся живот. – У тебя дерьмо по ногам течет! А ты спрашиваешь, публиковать тебе что-то, или нет!
Я смутился и посмотрел на свой живот. Вспомнил адскую боль и сразу же воспылал желанием помириться с… Я даже не знал, кто он! И почему я пропустил его нудные и длинные рассуждение о своей природе?
– Да уже без разницы, – шляпник рукой, – я – всего лишь плод твоего воображения. И никто не лишал тебя свободы воли. Хотя… Знаешь, приказываю тебе опубликовать твою книгу.
– А? – не понял я.