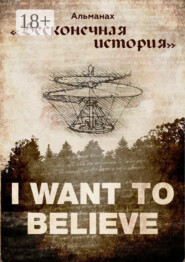По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тьма веков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ого, – ответил потрясенный Арье, понимая, что голос этот ему знаком, да и ситуация будто повторяется. Пусть и в несколько иных декорациях.
– Забыл меня? Да, давно никто тебя не тревожил так сильно, как этот самодовольный идиот, решивший, что евреи – хуже его панского величества. Давай открутим ему голову. И намалюем его кровью на стене что-нибудь похабное.
– Это как? – поинтересовался Арье. Он попробовал пошевелиться, но не смог. Будто всё тело юноши куда-то исчезло, и остался лишь разум, наделенный базовыми чувствами для восприятия оцепеневшей реальности. Казалось, само время внезапно остановилось, и всё, что оставалось юноше – это вести диалог с невидимым незнакомцем.
– А вот так, – усмехнулся голос, и отвратительное лицо директора исчезло, уступив место коротко стриженому затылку. Захрустели позвонки, брызнула во все стороны кровь из лопающихся артерий, и Арье почувствовал приятное щекотание в мозгу при виде столь ужасающей экзекуции. Не было сомнений, что чем бы там не руководствовался этот гадкий тип, но доводить Арье до бешенства, подобно тем двум задирам из детства, точно не стоило. Да и невидимый незнакомец был уверен, что директора следует наказать. А уж тот, кто запросто останавливает время и без всяких усилий откручивает человеческие головы, напрасно говорить ничего не станет.
– Отличная идея, – подтвердил Арье и ринулся на пана Туровича, голова которого вернулась в прежнее положение, а кровь растворилась в воздухе. Но, ненадолго. Мгновение спустя юноша с упоением насаживал некрасивую голову на древко польского флага, стоявшего в углу комнаты. Посмотрев еще раз в злые директорские глаза, Арье воткнул в них указательный и средний пальцы, заставив их лопнуть с характерным хлюпаньем.
– Ого. Вечер будет просто восхитительным! – прорычал он, облизывая окровавленные пальцы. Спустившись с потолка одним прыжком, юноша взмахнул руками и его намокшая от крови директора одежда в один миг преобразилась. На идеально наглаженной и вычищенной гимназической форме теперь не было и следа кровопролития. Насвистывая легкомысленный мотив песенки Раковецкого из недавно просмотренной комедии, Арье вышел из кабинета, чинно кивнул секретарше и загадочным голосом сообщил, что пан директор попросил некоторое время его не беспокоить.
– А ещё, дорогая моя, меня тут и вовсе не было, – шепнул юноша, вдруг наклонившись к самому уху пожилой пани, и, пропев ей куплет про сладкие губы, очаровавшие его, проснулся.
– Боже мой, – прошептал он и посмотрел в темное окно. Ощупав себя, он понял, что лежит под одеялом, в своей пижаме. Смутные обрывистые образы прерванного сна всё еще стояли перед глазами, заставляя сердце мальчика усиленно биться. Но вместе с тем его охватило сильное чувство облегчения от того, что виденное им не было чем-то реальным.
Соскочив с кровати, он надел тапочки и тихонько прошмыгнул по темному коридору в уборную. На обратном пути в комнату он наткнулся на внезапно появившегося в прихожей отца, от которого веяло холодом и запахом бензина.
– Папа? – удивился Арье, будучи уверен, что тот спит.
Однако тот ничего не ответил. Лишь крепко сжал юношу за плечо до боли, так что он вскрикнул от неожиданности, и втащил его в столовую.
– Что происходит, папа?! – воскликнул весьма напуганный поведением отца Арье. Вид младшего инспектора Кацизне говорил о многом. О спешности, с которой он куда-то удалился посреди ночи из своей квартиры. О глубоком шоке, который он испытал во время этой отлучки. О гневе и ужасе, который он испытывал прямо сейчас, глядя в испуганные и непонимающие глаза своего сына.
– Покажи свой ожог, – хриплым надорванным голосом приказал отец, отпуская Арье. Глотая слезы, тот скинул с себя верхнюю часть пижамы, оставшись в майке и оголив шрамы, уродовавшие его правую руку чуть ниже плеча. Они служили единственным воспоминанием о дедушке Йехуде, лицо которого Арье и вспомнить даже не мог, но хорошо помнил его сиплый, еле слышный, голос и сильные костлявые пальцы, вцепившиеся в его руку, когда он умирал. И дикую боль от раскаленного клейма, навечно впечатавшего в его детскую кожу загадочный символ, смысл которого дедушка даже не пытался объяснить. Для Арье, получившего шрамы в трехлетнем возрасте, всё связанное с ними казалось далеким и страшным сном. Но, видя взирающего с ужасом на шрам отца, мальчик решил, что страшный сон, вероятно, еще не закончился, и робко повторил вопрос:
– Что происходит, папа?
– Одевайся, Арье, – прохрипел отец и машинально положил руку на рукоять револьвера, висевшего в кобуре на поясе. Напуганный до смерти мальчик помчался в свою комнату, не смея перечить папе, натянул поверх пижамы свитер, ватные штаны, и явился в прихожую, тщательно уверяя себя в том, что отец ни в коем случае не собирается причинить ему какой-то вред. Потому что, сколько Арье себя помнил, никогда папа не давал повода не доверять ему.
«Берлина» в этот раз был без водителя. Филипп Кацизне сам вел автомобиль по узким улочкам еврейского квартала, ловко лавируя между оставленными на улице тележками, повозками и всяким скарбом, не вмещавшимся в тесные квартиры местных жителей. Судя по часам, ночь подходила к концу, но до рассвета было еще далеко. С неба сыпались сухие маленькие снежинки, больше похожие на ледяные крошки, а с Вислы задувал промозглый декабрьский ветер, многократно усиливаясь в лабиринте переулков Казимежа и вызывая настоящую метель, затруднявшую видимость на, и без того тускло освещенных, улицах квартала. Немудрено, что торопившийся неведомо куда младший инспектор не смог избежать аварии и его автомобиль на полном ходу протаранил запертые ворота, ведущие во внутренний двор старинного двухэтажного дома. К счастью, ворота оказались довольно хрупкими, и столкновение вызвало только скромные повреждения передней части автомобиля, но не его пассажиров. Но сам факт аварии привел Арье, привыкшего к идеальной аккуратности и осторожности отца, к мысли, что пора задуматься о некоторой его неадекватности, а, значит, и о вероятной опасности, которая могла от него исходить.
На крыльце дома зажглась яркая лампа и из подвала, сбоку от парадного входа, выскочил юноша в тулупе, без шапки, так что были хорошо видны длинные спутанные пейсы. Он героически бросился прямо к заваленной обломками дощатых ворот, машине с криками на смеси польского и идиша, чем разбудил всех обитателей дома. В окнах зажегся свет, показались заспанные лица людей, пытающихся разглядеть, что случилось ранним субботним утром в их дворе.
– Тихо, тихо! – прикрикнул на юношу пан Кацизне, показывая полицейское удостоверение, – Мне нужен Соломон Иловичи!
– Нельзя! Нельзя тревожить ребе Шломо! – возмущенно затараторил юноша, поняв, кто именно ворвался в его двор, – Вам нельзя сюда, пан Кацизне! На вас наложили херем! Ребе не будет говорить с вами! Тем более в субботу! Сегодня зажигают седьмую свечу…
– Да мне плевать! – рявкнул Кацизне, выхватил револьвер из кобуры и сунул его вороненый ствол под нос юноше, – Живо отведи нас к Соломону!
– Папа, что ты делаешь?! – воскликнул основательно напуганный Арье, выскакивая из автомобиля, – Не убивай его, папа!
Последние слова мальчика, похоже, убедили молодого еврея, что младший инспектор не шутит, и, для начала, перестал тараторить, сосредоточенно вглядываясь в поблескивающий в свете фонаря барабан «нагана». Затем кивнул в сторону парадного входа и медленно произнес:
– Прошу, пойдемте, я разбужу ребе Шломо.
– Арье, за мной, – скомандовал инспектор, и в его голосе было ни капли отцовской нежности. Мальчик, по-прежнему не понимающий, что нашло на его отца, послушно поплелся за ним в дом.
Дом оказался той самой ешивой – талмудической школой, отнюдь не выглядевшей вшивой. Ученики, проживавшие здесь же, высыпали из своих каморок и быстро заполнили лестницу, став живым щитом между инспектором и опочивальней раввина.
– Я только хочу поговорить с Соломоном! – громко сказал Кацизне, демонстративно убирая «наган» в кобуру и показывая пустые руки.
– Зачем он вам?! – выкрикнул кто-то из студентов ешивы.
– У моего сына проблема, – ответил инспектор, притягивая опешившего Арье к себе, – Вы знаете, кто я, и кто был моим дедом. Соломон Иловичи тоже знает. Поэтому мне и нужно с ним поговорить.
Юноша-сторож встал в нерешительности между инспектором и студентами, не имея возможности пройти дальше. Ученики ешивы начали перешептываться, решая, что им делать, но тут послышался слабый старческий голос, издававший звуки, больше похожие на стоны умирающего, нежели на слова. Голос этот произвел на учеников магическое действие. Как один, они замолчали и, кажется, даже перестали дышать, дабы не упустить ни единого колебания воздуха, исходившего от невероятно дряхлого старика, показавшегося на балконе.
– Пусть он проходит, – сказал старик ученикам, и те мигом выстроились вдоль стены, освобождая часть лестницы. Инспектор, не ожидавший столь легкого и быстрого решения вопроса, остался стоять на месте, как вкопанный, с удивлением взирая на старого раввина. А тот, сделав несколько громких булькающих вдохов и набравшись сил на очередную фразу, с укором спросил:
– Ну что ты, так и будешь вынуждать старика стоять на ногах, которые давно уже утратили своё предназначение?
– Простите, – с неожиданным стыдом в голосе ответил Кацизне и, склонив голову, ступил на лестницу, не выпуская руку Арье из своей.
Когда они поднялись, силы уже оставили старика, и двое студентов, подхватив иссушенное возрастом и лишениями тело, осторожно отнесли его в спальню и положили на большую кровать с роскошным балдахином. Соломону подложили под голову подушку, чтобы он мог видеть своих гостей. Затем все удалились, оставив раввина и гостей наедине.
Несколько минут все присутствующие в спальне молча разглядывали друг друга. Арье никогда еще не видел столь старого человека, и был уверен, что в таком виде жизнь просто не может существовать. Лицо и руки Соломона были настолько морщинистые, что он больше походил на сказочного персонажа, нежели на человека. Хрестоматийный крючковатый нос идеально ложился в канву обычных газетных сюжетов про жадных евреев, заполонивших Польшу, а непонятного цвета глаза были спрятаны так глубоко под густыми белыми бровями, что невозможно было сказать точно, видит ли их хозяин хоть что-нибудь. Вдобавок, в тишине спальни, в шаге от старика, можно было ясно различить, наводивший на мальчика жуть, клекот во впалой груди при каждом вдохе.
– Простите, пан Иловичи…
– Пан, – фыркнул Соломон и еле заметно покачал головой, – Когда-то ты был лучшим учеником этой ешивы, Филипп.
Арье удивленно посмотрел на отца, который в компании старика уже не выглядел так угрожающе. Напротив, всем видом он выражал смирение и сожаление по поводу своего поведения. Было похоже, что старый учитель еврейских законов имел большую власть над своим бывшим учеником, и мысль об этом действовала на Арье успокаивающе.
– Перейду сразу к делу, – чуть более решительно сказал инспектор, проигнорировав замечание раввина. Он повернулся к сыну и попросил того показать свой ожог на руке. Арье принялся стягивать с себя пальто и свитер, по-прежнему не имея догадок, как именно связаны его старые шрамы с их ночной поездкой по еврейскому кварталу.
– Милый мальчик, подойди, – ласково простонал Соломон, и Арье повиновался. Раввин с большим трудом преодолел силу притяжения Земли и поднял одну руку, чтобы его сухие и тонкие, как соломинки, пальцы могли коснуться старых рубцов, избороздивших детскую кожу. Белые губы раввина затряслись, а пальцы, проведя по ожогу, беспомощно соскользнули на одеяло и больше не двигались.
– Откуда это у тебя, мальчик? – спросил старик.
И Арье поведал ему, что помнил. А помнил он такую же большую кровать с балдахином и керосиновую лампу, чей мерцающий свет заливал перекошенное предсмертной агонией лицо дедушки. И голос, хриплый, будто рычащий, требующий подойти ближе. Арье закрыл глаза и коснулся ожога. Воспоминания об ужасной боли заставили его сморщиться. Боль и запах обожженной плоти. Его, Арье, плоти, дымящейся под большой, сверкавшей красным огнем, печатью, которую дедушка неожиданно извлек из-под кровати. Потом был пронзительный детский крик – это кричал Арье, отшатываясь назад и падая навзничь. Следом перед глазами появлялся отец, ногой выбивавший потухшую железяку из дряхлой руки и бьющий кулаком наотмашь по морщинистому лицу. И глаза мамы, полные огромных, сверкающих слез, накладывающей компресс поверх лопнувшей обугленной кожи.
– Что это за знак? – спросил инспектор дрожащим голосом.
– Его поставил ребе Йехуда? – ответил вопросом на вопрос Соломон. Филипп кивнул.
– Говорил ли он что-нибудь… когда делал это?
– Не знаю. Я был за дверью. Он сказал лишь, что хочет благословить моего первенца перед смертью. После…, – инспектор замялся, пытаясь как-то помягче преподнести горькую правду о своем поступке, – Понимаете, я испугался за сына. Он его прижег. У мальчика был шок. Мы были уверены, что он умрет от боли.
– Значит, Йехуда не упал с кровати, как вы говорили? – догадался Соломон и затих, переводя дух. Каждое слово давалось ему с большим трудом, а в этом разговоре слов предстояло сказать еще слишком много.
– Да, я его ударил, – признался, после недолгих колебаний Филипп, уперев ладонь в глаз, – Но он и так уже умирал. Что это за чертовщина, ребе? Это как-то связано с его каббалистическими изысканиями?
– Почему именно сейчас ты пришел задавать вопросы, Филипп?
– Потому что десять лет назад, когда моя жена… – инспектор покосился на Арье, и мальчик увидел на лице отца слезы, – Погибла, этот символ был нацарапан на стене её кабинета, залитого кровью моей бедной… Сары. Потому что три года назад двое польских мальчиков и молодая еврейская семья с младенцем были убиты, разорваны на части. И рядом с ними был этот проклятый знак. А вчера в гимназии, где учится Арье, голову директора нашли насаженной на древке польского знамени в его кабинете. А в данный момент криминалисты изучают останки еще одной молодой семьи… Двухлетние близнецы… И женщина, которая, судя по всему, была беременной…
– Я разорвал ей живот… – вдруг произнес Арье и посмотрел прямо отцу в глаза, в которых читался ужас, поэтому слова «… и зубами вытащил маленький, пульсирующий комок из её чрева…» он вслух говорить не рискнул.