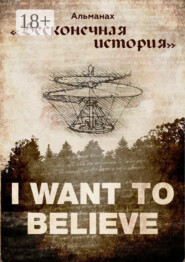По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тьма веков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не могу. Ты можешь передать меня только своему потомку.
– Не можешь? – Арье удивился. Он давно не удивлялся, и, потому, удивился еще и тому, что в его душе осталось место для чувств.
– Ты умрешь вместе со мной?
– Я не позволю этого. Мы можем вечно пребывать в этом моменте. Пока я не смогу убедить тебя отдать мне приказ.
– И ты убьешь тысячи солдат? Убьешь Гитлера? Убьешь всех на нашем пути к свободе?
– Да…
– А потом я проведу остаток своей жизни, выплачивая кровавую цену? Каждую ночь вгрызаясь в чрево очередной еврейской матери? Ломая ребра еврейских детей? Отрывая головы еврейских отцов? И насыщая тебя их болью и страданиями?
– Что?
– За каждого ты просишь втройне. Я уже уяснил тот урок. Миллионы погибнут. Если не все. И ты, насытившись, моими же руками уничтожишь народ, который тебе было поручено защитить. О да, демон, я всё понял.
– Освободи только себя. Я перенесу тебя, куда захочешь. Не убивай никого из твоих врагов. И наблюдай, как пощаженные тобой уничтожают твой народ. И не в течение многих лет, а сейчас, сегодня. В один момент.
– Нет, демон. По твоему не будет. Нацисты – всего лишь люди. Их когда-нибудь победят другие люди. Люди сами решают свои проблемы. Люди гибнут и рождаются. Люди порождают зло, но сами же его и останавливают. А ты, демон, то зло, которое они никогда остановить не смогут. Зло, которое неподвластно законам природы и неуязвимо для человеческого разума. Зло, собирающее кровавую жатву, и никто не в силах его остановить. Такое зло я не могу выпустить в этот мир. Пусть, даже, и ценой жизни миллионов.
– Ты не понимаешь…
– Понимаю. Оставь меня.
– Нет, я буду здесь целую вечность. И ты, целую вечность, будешь в плену этого момента, взирать на кирпичную стену в ожидании смерти. Но смерти не будет. Буду лишь я!
– Пусть так. Я сделал выбор, – стальным тоном произнес Арье и обещанная демоном вечность моментально закончилась.
Газ убивал медленно, и еще долго, прежде чем последний раз закрыть глаза, Арье мог с упоением наблюдать, как на расцарапываемой стене, среди голых, бьющихся в конвульсиях, тел, корчится в муках умирающий демон, чей силуэт становился всё отчетливей и ярче. Наконец массивная фигура в черных одеждах вырвалась из стены, разметав задыхающихся людей, и рухнула на колени перед своим хозяином. Нечленораздельный вопль вырвался из бездонной черной глотки, и демон растворился в воздухе, подарив последний миг удовлетворения и покоя Арье, с легкой душой отправляющемуся на облачко к дедушке.
Александр Лебедев
Мальки
«Накануне, следуя миролюбивой политике и предупреждая возможные провокации со стороны сопредельных государств, развязавших междоусобную войну, были приведены в высшую степень готовности части вермахта и СС, дислоцирующиеся вдоль границ Чехословакии и Польши. Польское руководство, введенное в заблуждение касательно своих возможностей, и рассчитывающее на захват чехословацких территорий без каких-либо на то оснований, стоит теперь на краю масштабного кризиса, отражая удары с юга и востока. Напротив, мы видим, как торжество здравого смысла и стремление к сотрудничеству укрепило взаимное доверие между нашим фюрером, Адольфом Гитлером, и лидером Чехословакии, Эдвардом Бенешом, взявшим на себя обязательства по мирному реформированию…»
– Фрау Баммер, скажите пожалуйста, это берлинское радио? – с наигранной строгостью спросил Шмитц, отрывая взгляд от прекрасного вида на Линцевский замок, открывавшийся с другого берега Дуная за двадцать лет до того, как через реку начали возводить новый мост по личному указанию Гитлера.
– Простите, криминаль-инспектор, – разволновалась секретарша, и от того её голос задрожал, – Я решила послушать венское. Сейчас же переключу…
– Нет, что вы, моя дорога фрау Баммер. Я всего лишь хотел высказать своё удивление по поводу неуклюжих речевых оборотов, в которые диктор пытался заключить суть радикальных изменений внешней политики нашего рейха. Но, раз радио венское, то переживать не стоит. Думаю, в Вене Геббельс еще не довёл работу пропагандистской машины до ума.
– Ой, господин Шмитц, вы такие разговоры со мной ведете… Я же всего лишь ваш секретарь.
– Боитесь провокации, фрау Баммер? – Шмитц нахмурил одну бровь, пристально взглянул на бюргершу, и рассмеялся.
– Фрау Баммер, запомните. Как только вам покажется, что я начинаю вас в чем-либо подозревать, смело сыпьте крысиный яд в ваши бесподобные венские вафли. Вы ведь меня так прикормили, что я даже под страхом смерти не смогу перед ними устоять.
– Ой, инспектор, вы слишком добры.
– Только к верным сынам и дочерям Германии, – ответил, добродушно ухмыляясь, Шмитц, и вернулся к разглядыванию фотографического альбома, изъятого накануне в квартире некоего еврея Шонберга, проживавшего на Леденграссе, в самом центре Линца. Даже в городской ратуше не было столько исторических фотографий Линца, сколько хранил у себя старый иудейский пройдоха, решивший, что раз смог скрыться от вездесущей службы безопасности рейхсфюрера СС, то и единственный на весь рейхсгау Верхний Дунай сотрудник гестапо его не найдет. А Шмитц, таки, нашел. В пику проклятым СД, из-за которых ему в Линце заниматься было нечем, кроме как листать конфискованный альбом и слушать венское радио.– Пойду, прогуляюсь, фрау Баммер, – учтиво сообщил Густав секретарше и, озаренный её сердечной улыбкой, вышел из кабинета. Спустившись по широкой лестнице в вестибюль, он наткнулся полицейских в старых серых мундирах, которые тащили под руки, совершенного голого и обритого, юношу. Тот инфантильно упирался и что-то грустно мычал. Весьма озадаченный увиденным, криминаль-инспектор проследовал мимо.
На улице царила осенняя прохлада. Набегавший с Дуная ветерок, пропахший тиной, лениво ворошил опавшую листву на Клостерштрассе, где в здании полицейского комиссариата Линца расположился отдел гестапо, состоявший ровно из одного криминаль-инспектора. Помимо Шмитца здесь же обитали обыкновенные муниципальные полицейские, работа у которых была куда интересней, по мнению Густава, некогда начинавшего карьеру в уголовной полиции Дрездена. Услышав жужжание взлетающего с аэродрома, на востоке Линца, самолета, Шмитц задрал голову, в бессмысленной попытке разглядеть его сквозь серую пелену, застилавшую небо. С грустью подумал о том, что было бы неплохо сейчас отправиться на крылатой машине куда-нибудь в горячую Бразилию или безмятежную Скандинавию. Потом тряхнул головой, выбросил в урну так и не зажженную сигарету, и побрел назад, к альбому и безмятежности своего кабинета, пропахшего рагу и карамелью по вине бесподобно готовившей фрау Баммер.
В вестибюле Шмитц вспомнил про странного юношу и, чтобы хоть как-то разогнать скуку, поинтересовался у дежурного, куда его отвели. Проследовав в указанном направлении, Густав оказался в кабинете обермейстера Мозера, веселого сорокалетнего толстячка, в чью компетенцию входил муниципалитет Урфар, к северу от Линца. Мозер, по обыкновению, развалился в кресле, и что-то отчаянно искал в беспорядочной стопке бумаг на своем столе. В углу, в компании молодого кандидата, сидел юноша, наготу которого заботливо прикрыли бордовым шерстяным одеялом. Оно было ужасно колючим, и задержанный плакал, вяло пытаясь выбраться из-под него, но полицейский не давал ему этого сделать.
– Криминаль-инспектор Шмитц! – прокаркал Мозер, вскакивая при появлении сотрудника гестапо, – Чем могу быть вам полезен?
Густав смущенно кивнул обермейстеру, и тихо сказал:
– Садитесь. Я тут не потому, что кто-то из вас заподозрен в еврействе или коммунизме.
Мозер изобразил весьма натянутую улыбку и сел, но уже не так вальяжно, как раньше.
– Кто этот загадочный молодой человек? – спросил Шмитц, указывая пальцем на плачущего юношу.
– Не имею возможности знать, господин криминаль-инспектор. Был найден на Гроссамберг-штрассе. Без одежды и документов. Ни слова по-немецки связать не может. Да и вообще, кажется, человеческой речи не знает. Может быть, душевнобольной. Я только что звонил в лечебницу, и эти психиатры твердят, что ничего не знают. У них беглецов не зарегистрировано.
– Позволите, я взгляну? – спросил Густав. Мозер, наслышанный о гестапо, всё еще никак не мог привыкнуть к неожиданной вежливости и учтивости грозного служителя политической полиции. Потому он опять инстинктивно вскочил и выпалил:
– Конечно, господин криминаль-инспектор! Ригль! Сними одеяло с задержанного!
Ригль повиновался, и обнаженный юноша, облегченно вздохнув, уставился заплаканными синими глазами на Шмитца, нервно улыбаясь подрагивающими кончиками рта. Густав произнес «Кто ты?» на немецком, английском и русском, но юноша никак не отреагировал на его познания в иностранных языках, и даже не открыл рта. Лишь наивными детскими глазами смотрел прямо в цепкие и колкие глаза сотрудника гестапо.
– Будто собака, – пробормотал Шмитц, отводя взгляд. Он быстро осмотрел тело юноши и задумчиво произнес:
– Выглядит, как настоящий ариец.
– Что вы хотите этим сказать, господин криминаль-инспектор?
– Ригль, поставьте его на ноги. Да, вот так. Смотрите, господин Мозер, наш молодой человек, можно сказать, идеален, – Шмитц, взял со стола длинное чернильное перо и, используя его в качестве указки, стал объяснять суть своих слов, – Взгляните на этот череп. Плечи. Туловище. Никаких изъянов. Никакой кривизны. Идеальные жировые складки. Нет излишнего веса, но нет и признаков голода. Нет родинок, родимых пятен, лопнувших сосудов, прыщей и корост. Я не вижу следов оспы или других заболеваний. Зато есть след от противотуберкулезной прививки на плече. Удивительная предусмотрительность со стороны… Опекуна этого странного молодого человека.
Мозер, максимально напрягая все свои извилины, старательно всматривался в каждую деталь, указываемую ему Шмитцем, и не менее старательно поддакивал на каждое его утверждение.
– А вот, гляньте, Мозер. Ригль, и ты тоже, – Густав просиял, обрадованной неожиданной и интригующей находке, – Клеймо! Настоящее, выжженное клеймо за ухом! Мозер, вы уже начали заполнять бумаги на этого гражданина?
– Да, да, конечно! – выкрикнул, обермейстер, вздымая над головой серый лист протокола, в котором виднелось всего две строчки.
– Отлично, господин Мозер. Так пишите. За правым ухом присутствует круглое клеймо, размером с монету в десять рейхпфеннигов.
– …рейхпфеннигов, – повторил обермейстер, в бешеном темпе царапая бумагу химическим карандашом.
– Клеймо старое. Вероятно, поставлено в глубоком детстве. В круге присутствует надпись. На английском языке. Фрукты.
– Фрукты? – переспросил Мозер, чуть было не написавший это, совершенно не подходящее случаю слово, в протокол.– Fruit – по-английски значит «фрукты», – подтвердил Шмитц, чувствуя, как его охватывает ликование. Будучи взращен на детективах и приключенческих романах, юный Густав мечтал о таинственных и захватывающих приключениях. И вот, посреди серой линцевской безнадежной скуки на него свалился мычащий юноша с клеймом. И в этом юноше, с литературной точки зрения, было прекрасно вообще всё. Таинственность – на месте. Удивительно? Конечно! Лишенный одежды, в октябре, в достаточно оживленном районе, не в джунглях каких-нибудь. Откуда он тут мог взяться никем не замеченный ранее? К тому же у него не было ни намека на переохлаждение или простуду. Значит, его держали где-то неподалеку, и он сбежал. Либо, его везли куда-то, и потеряли. Это удивительное появление вкупе с клеймом за ухом и отсутствием всякого человеческого разума найденыша намекали на определенное злодейство, длительное время творимое над этим человеком. Определенно, юноша стал жертвой чьего-то злого гения. Или не гения. Но злого – это точно. А еще этот не характерный для Линца запах…
– Вы чувствуете, Ригль? – спросил Шмитц, прикрывая глаза и жадно втягивая носом воздух. Полицейский принюхался и закивал: