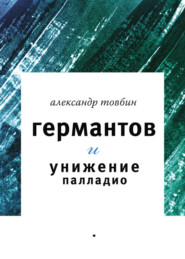По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Музыка в подтаявшем льду
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
хорошо
там,
где
нас
нет
После сбора садового урожая, абрикосы тщательно промывались, надрезались, Илюше с дедом поручалось раскалывание извлечённых хитрым способом косточек – мать варила варенье по особому рецепту, в абрикосы, словно в футляры, вкладывались обратно ядрышки, они добавляли сладким, пропитанным сахарным сиропом, плодам, когда их раскусывали, удивительную горчинку.
Ядрышки складывались в глубокую тарелку, осколки косточек – на газету… Соснину всё это быстро надоедало, мечтал почему-то о возвращении, воображал день приезда, обмен новостями.
В комнату влетит Раиса Исааковна…
– Риточка, бедному Мирону Изральевичу опять окно в кабинете вышибли, так, наконец, догадались железную решётку приколотить! И Ася с дочуркой вернулись из деревни, – шептала, округляя глаза, – у Литьева, слава богу, прекратятся пьянки, душу за лето вымотал. И громко, волнуясь, хвастала технологическим достижением – добилась, в шпроты с учётом старинных рецептов будут добавлять горчичное масло.
отвлекаясь
И сразу – скачок далеко назад, в дачный июнь под Сиверской. Переболел скарлатиной, выезд к морю затягивался… блюдце с лесной земляникой… ешь, ешь, – приговаривала мать, – в землянике столько железа… Тогда же погиб хомячок, раздавленный соседом-велосипедистом…
и
снова
скачок
(на угол Кузнечного и Большой Московской)
Трудно ручаться за точность зоологической аттестации, возможно, погиб не хомячок, погибла морская свинка, родственница той, что на подступах к Кузнечному рынку вытаскивала из продолговатой картонной коробки билетики с расплывчатыми формулами индивидуального счастья, пока владелец гадальщицы, инвалид-пропойца с деревянной ногой, опасливо провожал взглядом синюшного распухшего Шишку, принимавшего парад побирушек, остервенело гремевшего по грязному неровному тротуару на искривших подшипниках, и следил за Вовкой, который подозрительно ошивался рядом; не упустил бы удобного случая вырвать деньги, дать с победным посвистом дёру… Но инвалид запихивал-таки мятую купюру в карман, правой рукой силился удержать шест с огромной гроздью разноцветных воздушных шаров, она, чудилось, вот-вот взмоет в небо выше колокольни Владимирского собора вместе с пьяненьким продавцом, свинкой-гадальщицей, да ещё прихватит за компанию торговок-цыганок с красными приторными петушками на плоских щепочках, букетиками едко-яркого ковыля – цыганки непрестанно перебирали смуглыми пальцами лиловые, малиновые, изумрудные пряди – и прилепившихся к бойкому месту старушек с выводками восковых лебедей, семечками, сушёным шиповником в кулёчках, свёрнутых из клочков газеты… Сколько раз Илюша держался во сне за шест с проволочной петлёй, к которому были привязаны яркие игрушечные аэростаты; так тянуло ввысь, так хотелось улететь вместе с сильной цветистой стаей, увидеть сквозь разрывы в облаках собор, куполки, залатанные кровельной жестью, по другую сторону площади – громоздкий обшарпанный дом с аптекой, булочной, треугольными фронтонами по бокам башенки, увенчанной ржавой луковицей. И сколько раз, зазевавшись, выпускал из рук шест и… падал, но не расшибался в лепёшку, нет, обнаруживал, что стоит на тротуаре и смотрит вверх, на него, грохоча, неудержимо катится Шишка… Да, купленный дедом воздушный шар зачастую лопался или предательски выскальзывал из рук, улетал…
обратно
на
дачу
Свинка ли, хомячок… трогательная божья тварь, не чуя беды, сновала в клетке, жевала морковку, обрывки капустных листьев, когда клетку выносили на волю и отворяли дверцу, безмятежно паслась в травяном буйстве лесной опушки среди ромашек и колокольчиков, пока Илюша преследовал с марлевым сачком бабочек. А тут велосипедист на лесной тропинке случайно вильнул рулём…
В азарте погони за бабочками терял из виду высокий берег реки с глинистыми обрывами, стройными соснами на фоне неба и углублялся в тёмную высокоствольную сушь. Одинокий луч вдруг поджигал пылинки, но стоило шелохнуться, крохотные огоньки гасли… застывал, осторожно наклонял голову, пока пылинки опять не вспыхивали, как размельчённые драгоценности, в срезе луча, боялся сдвинуться с места; таинственно шелестели папоротники, покачивались в паутине сонные мухи.
Обессилев от напряжения, падал, как подкошенный, в мягкий мох… тут и там катапультировались в облака кузнечики.
Хотелось, чтобы блаженство летнего дня, вечера длилось, хотя звала к столу мать; опять блюдце с земляникой, стакан молока? Притворялся, будто не слышал, или капризничал, или с обманной радостью несся на её зов, в последний момент проскакивал мимо выставленных навстречу, твёрдых, точно оглобли, рук.
И странно! До сих пор видел те проколовшие небо травинки, рыжеватые иглы хвои, спаренные, как ножки измерителя… И видел отца, приехавшего из Крыма, чтобы забрать с собой, к морю – отец привёз недозрелые абрикосы, которые мать запретила есть, мог разболеться живот; итак, отъезд задерживался… И ещё отец подарил трёхколёсный велосипед с плоским деревянным седлом, у него была невысокая спинка в виде лакированной, поставленной на ребро дощечки… радость от подарка, правда, омрачила трагедия с хомячком.
Отец думал о работе, об оставленных им маленьких пациентах. Даже приехав в прошлый раз на Новый год, он, казалось, мысленно склонялся над операционным столом, когда на утреннике, с ватною бородою, сжимал в своей руке Илюшину ладошку и вынужденно вёл детский хоровод вокруг ёлки… Вот и сейчас, думая о своём, он рассеянно прижимался наждачной щекой… курил, распугивая дымными выдохами мошкару, пока Илюша, вцепившись в руль, будто у него кто-то собирался его отнять, с необъяснимым волнением смотрел на сочную солнечно-зелёную листву, придавленную свинцом предгрозовой тучи.
Почему картинка врезалась в память?
Не исключено, что уже в детстве его притягивали контрасты.
Но скорее картинка запомнилась в качестве простенькой сигнальной метафоры: назавтра возвращались с дачи, Илюша с дедом собирались в зоопарке покататься на пони, а по радио Молотов сказал, что началась война.
кратко
о
деде-коммерсанте
Да, да, третьим взрослым на семейном фото был лысый усач с влажно-горящим взором – дед по материнской линии.
Вскоре, правда, он сбрил усы; и взор его угасал…
С коричневым саквояжем из толстой гладкой кожи, набитым разноцветными лоскутками, дед увлечённо и убыточно коммивояжировал по треугольнику Петербург – Киев – Варшава. Воображая себя королём текстиля, по меньшей мере, владельцем всесильного текстильного треста, он упивался комфортом международного вагона – плавным, с покачиванием на рессорах, словно у роскошной кареты, ходом, плюшевыми диванами визави и горизонтальными овальными зеркалами над диванными спинками, вышколенными, в белых хлопковых сюртуках с блестящими номерными бляшками проводниками, которые разносили по купе крепко заваренный чай в тяжёлых серебряных подстаканниках.
Этот дивный колёсный быт на какое-то время и сделался его капиталом.
Когда революция заменила международные вагоны теплушками, дед, пассивный оптимист по природе, решил, что товарищам у него нечего реквизировать, он сможет спокойно спать; после краха НЭПа, повздыхав, расстался со старорежимной любовью к дунайской селёдке с душком, чья жирная спинка прежде так его вдохновляла, поблескивая в массивной, с рельефной фарфоровой чешуёй, селёдочнице Кузнецовского сервиза меж греческих маслин и колечек лука.
как
им
всё-таки
было
весело!
Соркин с Душским наперебой подтрунивали над дедом, обзывали раскулаченным коммивояжёром-гинекологом, ибо по единодушно-циничному мнению медицинских светил, обычно редко в чём соглашавшихся, – столь квалифицированному мнению трудно было не доверять, – старинный кожаный саквояж с потёртыми боками и замком в виде двух коротких чуть скруглённых стебельков с металлическими, зацеплявшимися друг за дружку шариками… якобы точь-в-точь с такими саквояжами, куда упрятывалась оснастка для быстрых операций, прощелыги-хирурги, надвинув на бесстыжие глаза шляпы, отправлялись в подпольные абортарии.
Мать нервно передёргивалась от этих шуточек, прижимала ладошки к вискам и старалась хоть чем-то отвлечь Илюшу.
на
самом деле
Саквояж, конечно, был набит лоскутками – пёстрыми образцами тканей. В давние и лучшие времена, они, снабжённые каталожными индексами текстильных фирм, аккуратненько высовывались уголками из стянутых резинками углублений на страницах-кассетах специальных, вроде филателистических, альбомов, но затем альбомы растрепались, резинки оторвались, и весь этот сопутствовавший свободной торговле хлам дед выбросил за ненадобностью, поскольку социалистическая революция, как он понимал, победила бесповоротно, лишь лоскутки пожалел, оставил – сбились в многоцветную кучу…
Бывало, дед наугад выхватывал из неё лоскуток ли графитно-тёмного английского бостона, небесно-голубого лионского шёлка, подолгу пристально рассматривал, вставив под изогнувшуюся дугою бровь костяную чёрную трубочку с маленькой лупой, такую же, какая торчала из глазницы согбенного, с восковой лысиной, часовщика, который, ковыряя пинцетиком в кружевном механизме, навечно поселился в немытом окошке, том, что слабенько светилось на Владимирском за витринами Соловьёвского гастронома и широким, как дворовые ворота, кое-как вымазанным коричневой масляной краской двустворным выходом из «Титана»… до чего придирчиво рассматривал клочки избранных тканей дед, но ни одного изъяна не мог найти; напряжение спадало, черты смягчались – по лицу расплывалось блаженство.
Позже и Соснин вытаскивал из шкафа всеми забытый саквояж, раскладывал по полу лоскутки, перекладывал, чтобы получалась мозаика – фиолетовые, жёсткие, в косой рубчик; тёмно-бордовые, мягкие; тоненькие-тоненькие, сиреневые, с металлическим блеском; ворсисто-плотные – болотно-зелёные, бежевые, коричневые… увлекался ничуть не меньше, не исключено, что и больше, чем при перелистывании альбома марок, ловле калейдоскопических видений или перекраске неба с помощью цветных стёклышек – текстильная коллекция деда завораживала разнообразием оттенков, фактур. А таинственные словечки, которые роняла поначалу благосклонная к Илюшиной страсти мать? – драп, муар, парча, маркизет, тафта… А старомодные имена колеров, заимствованные ею из лексикона деда? – ярко-синий цвет, нечто среднее между кобальтом и ультрамарином, назывался – электрик, густосерый – маренго…
Да, поначалу мать умилялась, едва раскладывались лоскутки наподобие мозаичных ковриков, всплескивала руками – совсем как девочка! Но вскоре увлечение сына начало её раздражать – она избрала ему иное и, само собой, блестящее будущее; саквояж убрали на коммунальную антресоль.
поподробнее