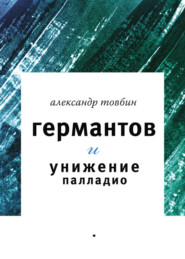По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Музыка в подтаявшем льду
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
с
дедом
в
эвакуации
Собственно, Соснину лучше всего запомнился дед именно там, в фабричном посёлке на обрывистом берегу Волги.
Добрались, внесли нехитрый скарб в комнатку, дед высунулся в подслеповатое окошко и, словно удивлённый увиденным, сообщил с наигранной бодростью – во дворе трава, на траве дрова…
Соснин запомнил деда безусым, высушенным болезнью – яйцевидный череп с кляксой пигментации у виска, озабоченно поджатые тонкие губы, большой кадык, болтающийся в сморщенном мешочке кожи. А вот дед в ватнике, грубых сапогах… Бродил под моросящим дождём по чёрному, убранному полю, разгребал кучи ботвы, воровато рассовывал по карманам найденные картофелины… на краю поля слободские подростки пекли на костре картошку, кидались в деда ошмётками обугленной кожуры, кричали, силясь перекричать друг друга: жид, жид; чёрное мокрое поле, костёр с кучкой хриплых горлопанов назойливо всплывали из памяти, когда замечал меловую стрелку на цоколе, тянувшуюся к продолговатому окошку подвального кабинета управдома Мирона Изральевича… Вскоре дед уже зарабатывал на хлеб с картошкой в цехе отгрузки бумажной фабрики, где выписывал накладные и пропуска. Вечером, забрав из фабричного детсада Илюшу, дед, будто день не нанёс никаких обид, мурлыкал вьётся-в-тесной-печурке… радостно стряпал – на большой чугунной сковороде жарилась картошка с луком, шипели, стреляли шкварки, затем дед, откашлявшись, наконец, радостно приговаривая, – пир на весь мир, пир на весь мир… – заваривал желудёвый, из собранного им с Илюшей осеннего урожая, кофе.
Но сначала дед старательно щепил лучины, разжигал печь.
А после ужина блаженствовали – дед усаживался на низком чурбачке, выставлял и сгибал ноги так, что Илюшу уютным капканом сжимали его костлявые колени; открыв железную дверцу печки, созерцали огонь, смолистые поленья потрескивали… так славно было молчать вдвоём, мечтать… Мы летим, ковыляя во мгле, – глуховато сообщал Утёсов из чёрной тарелки… на честном слове и на одном крыле, – с писклявым кокетством уточняла Эдит.
В промёрзлом бревенчатом клубе с длинными-предлинными, кое-как оструганными скамьями показывали на маленьком тряпичном экране «Два бойца» или «Серенаду солнечной долины», «Сестру его дворецкого» или «Жди меня», «Мою любовь»… или что-то увидел позже, после войны?… Точно, что там, в промёрзлом клубе, видел и «Светлый путь», «Цирк»… Свет, ошеломительный чёрно-белый свет бил с экрана, хотя именно в этот самый мятый экран ударял, растекаясь, расширявшийся стрекочущий луч. Светоносная жизнь отражалась-излучалась экраном в холодную темень тесного оцепенелого сарая, мечтавшего о сказочной жизни, тайно ожидавшего её, а луч, когда на миг оглядывался Соснин, уплотнялся над головами в платках, ушанках, сужался, чтобы пролезть в амбразуру проекционной, иглой вонзиться в глаз чародея-киномеханика… И во время киносеансов, и ночами, под набиравший бетховенскую мощь храп деда, Соснин наводил причудливые мостки между персонажами и сюжетами разных фильмов, присочинял новые мотивы и продолжения сентиментальных, фантастически переплетающихся историй. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас гу-ба-ми… – дед смахивал слезу, но куда соблазнительнее элементарных переживаний получались воображаемые связи и продолжения – военная песня по-свойски простого и обаятельного, обнявшего гитару Бернеса перелетала из одного фильма в другие, адресуясь вовсе не безвестной возлюбленной, которая вполне могла дожидаться трогательного глуховатого послания у детской кроватки и в этом заснеженном, помеченном высоченной, невкусно дымившей фабричной трубой посёлке, а Орловой, Серовой или Смирновой, они же, богини, волнующие песенные признания Бернеса пропускали мимо ушей, не желали отвлекаться, с нежной печалью их ласковые глаза смотрели прямо в его, Соснина, глаза… на него, только на него одного, смотрела Серова, молила, беззащитная, детским надтреснутым голоском – понапрасну… не тревожь, только в сердце мельком загляни… ему хотелось помочь Серовой, от жалости к ней перехватывало дыхание. Но… можно ли заглянуть в сердце? И уже Орлова смотрела на него лучистыми влажно-серыми опьяняющими глазами; Серова нуждалась в его защите, Орлова, напротив, ободряюще ему улыбалась. Он заигрывался, в миг упоения случался обрыв с хаотичным мельканием штрихов, точек, или – жирный небрежный крест обозначал конец части, кидались вскачь какие-то цифры. В тёмных клубящихся нетерпеливым дыханием паузах, пока под свист, топот и переругивания склеивали целлулоид или заменяли круглую, железную, похожую на пехотную мину коробку с плёнкой, он, не стряхнувший магии лирической киносказки, мог увидеть внутренним взором слепое окно желтоватого дворового флигеля в густой тени под карнизом, из окна вырывался синий-пресиний свет, в синее сияние заплывало сахаристое облако.
Не странно ли? Об эвакуационных зимах с дедом, о тонувшей в сугробах деревянно-избушечной окраине посёлка остались неправдоподобно-счастливые воспоминания: под навесом дровяного сарая отфыркивалась хозяйская лошадь с потным пятном на боку, облачком пара у мягких губ… и – снег, густой и пушистый снег; и ржаной хлеб с топлёным молоком, сверчок за печкой.
И яркостью ошарашивало тамошнее сине-зелёное лето! Шумели на ветру берёзы над Волгой, выше Илюши вымахивали луговые травы, цветы… в альбом памяти с полным правом вклеивались трепетные картинки: перламутровые ракушки на мокром песке, зеркальный блеск воды, расплескиваемый бесстыдной купальщицей.
Тем временем отец, начмед фронтового госпиталя, спасал раненых на операционном столе, мать, всю войну остававшаяся при нём, руководила художественной самодеятельностью. Ей шла армейская форма – ладные сапожки, гимнастёрка-хаки, затянутая на талии, заострённая башенкой, как у Дины Дурбин, причёска, на которой чудом удерживалась пилоточка. Мать цвела в окружении поправлявшихся после ранений орденоносцев, они пели соло, дуэтом, она вдохновенно аккомпанировала. Военные фотографии – на обороте мать проставляла дату, кратко беспокоилась по поводу тыловых лишений, – сохранили знакомый жест взлетевшей над фортепиано руки; её больше не мучили головные боли, бомбёжки ничуть не пугали.
Что же до тыловых лишений, то Соснин под крылом деда их не почувствовал, да-да, им было хорошо вдвоём, и прокормились недурно с помощью родительских посылок, денежных переводов. А под конец войны… дунайской селёдочкой, конечно, не пахло, но какие пышные омлеты взбивал дед из американского яичного порошка!
острое
впечатление
по
дороге
в
школу
(первый раз в первый класс)
В эвакуации дед повёл в школу; теперь Соснин видел и себя, и деда в тот первый школьный день издали, сквозь толщу лет: вот дед, задыхаясь от кашля, сжимая Илюшину руку, будто качаясь на ходулях, – так казалось из-за его высокого роста и неестественной худобы – пробирается сквозь толчею чумазых детей: прибыл эшелон крымских татар, их выгрузили почему-то со всем нехитрым скарбом рядом со школой – табор с дымками костров, насильственное кочевье, но дети играли… Илюшу на бегу толкнула смуглая, со смоляными волосами, девочка… замерла на мгновение, прожгла взглядом испытующих сливовидных глаз.
Да, война заканчивалась, Крым освободили.
В чёрно-белой хронике всё чаще вспыхивали огни салюта.
день
победы
Верили, ждали и вдруг – свершилось!
С балконов каменного двухэтажного дома свесили вместо знамён спешно выкрашенные, ещё мокрые простыни; с них капали алые капли.
спустя
несколько
лет
Дед тяжело умирал жарким летом в маленьком городке на западе крымского полуострова, где опять работал отец, назначенный главным врачом курорта.
Лучшие лекари, подобранные отцом, были бессильны: рак.
У мёртвого – не вовремя уснувшего? – деда лицо усохло, как у мумии, стало пыльно-жёлтым, будто дед давным-давно не умывался.
выбор,
спонтанно
сделанный
им
самим
Вернулись из эвакуации, ехали с отцом и матерью в «четвёрке» по Невскому; большой двухвагонный тёмно-красный трамвай-американка, скрежеща, сворачивал – слева темнели стволы, ветви на жёлтом фоне; за деревья улетали алебастровые трубящие ангелы, золотой кораблик срывался с кончика гранёной иглы, зарывался в войлочной туче.
Трамвай свернул, и Соснин уже смотрел вправо, не мог отвести глаз от свежевыкрашенного, изумрудно-белого дворца, а отец – ещё не демобилизовался, твёрдые майорские погоны нелепо сползали с узких покатых плеч, – объясняя что-то матери, произнёс: барокко. Хотя Соснин не слыл почемучкой, удивительное слово разожгло любопытство, прилип к окну… когда трамвай вползал тяжело на мост, и небо над невообразимым водным простором проколол тонкий высокий шпиль, спросил – что такое барокко? Вместо ответа родители переглянулись, довольные, рассмеялись. Мать шепнула отцу: даст бог, готовальня Ильи Марковича пригодится.
А-а-а, готовальня.
Впервые Соснин услышал название ансамбля загадочных – блестящих, острых – орудий, в чёрном плоском футляре тайно хранившихся под бельём. Кто такой Илья Маркович, он догадывался и раньше, но, ему, возбуждённому, переполненному увиденным из трамвая, было не до уточнений… возможно, ничего не подозревая об уловках Провидения, Соснин интуитивно восхвалял небеса за увиденное.
И то правда! Что бы с ним потом стало, если бы всё это тогда не увидел?
судьбоносное
барокко
и
выбор,
сделанный
задолго