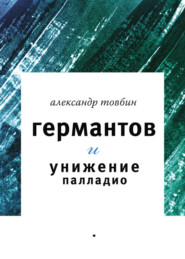По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Музыка в подтаявшем льду
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
о
деде-товароведе
Обеденный, Кузнецовского фарфора, сервиз на двенадцать персон по крайней мере занял почётную полку за фигурным стеклом буфета, по редким торжественным случаям сервизом поражали гостей, а достославный саквояж с тряпичными сокровищами ждало забвение в пыльной темени, хотя по сути это и было подлинное наследство деда, напоминание об отнятом капитале.
С дореволюционных лет дед жил у Поцелуева моста, над Мойкой, с начала тридцатых годов – в светлой, с чугунным балконом, угловой комнате, оставшейся у него от большой квартиры, где когда-то – до исторического материализма, балагурил Соркин, – родилась мать… Свобода, пусть и на один день! Ветер в приоткрытой балконной двери бодряще поигрывал тюлевой занавеской, под балконом, искря дугами, грохотали трамваи… Дед занимал комнату один – бабушка давным-давно, ещё до появления на свет Соснина, умерла. Изредка маленький Соснин гулял с дедом по Коломне, такой унылой, такой прекрасной; только дверь на балкон закройте, сквозняки губительны для Илюшиной носоглотки!.. – неслось им вслед. Они выслушивали, но сразу забывали субботние напутствия матери – дед забирал Илюшу к себе после работы, в конце недели, в воскресенье они хохотали в цирке над уморительно-серьёзным Карандашом с портфелем или Вяткиным в мятой зелёной шляпе и его выдрессированной, хотя своенравной собачкой, которую нарумяненный клоун таскал под мышкой, как лохматую сумку; после оглушительного финала представления – трубачи в красных жилетах дули в золотые трубы, а двугорбые верблюды, танцуя, мотали головами и скалились, взбрыкивали, разбрасывали сырые опилки – коломенское захолустье окутывало тишиной, уютом, дед, покашливая, читал наизусть смешные стишки, что-то рассказывал… свет падал в подвижное сито листвы, опрыскивал газон, увядавший цветник.
– За-три-девять-земель, в солнечной Италии, есть волшебный город на воде, там вместо улиц – каналы, вместо машин и трамваев – лодки и катера…
Медленно, взявшись за руки, шли вдоль канала к стройной колокольне по неровным гранитным плитам, шли за уплывавшими небесами – дробилось и смешивалось с облаком отражение колокольни… за стволами, напоминая море, синел собор, ветви простирались над тёмной водой; разгорался рваный край облака…
– Элегия, – вздыхал дед. Взор его, улыбка трогали такой же сумасшедшей мечтательностью, с какой он ощупывал взглядом ли, кончиками пальцев неподражаемую материю; Соснин не спрашивал про элегию – музыка незнакомого слова резонировала с зыбким коломенским очарованием, нужна ли была смысловая определённость?
– Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет, – с наигранной веселостью пытался оживить беседу дед… обошли собор…
Нет, веселиться не хотелось. Небеса заплывали в Мойку… Подолгу молча стояли на набережной напротив кирпичной таинственно-тёмной стены с невесомой высокой аркой, смотревшей на себя в воду… У деревянного моста через Пряжку дед протягивал руку в сторону желтоватого безликого дома – там Леонид Исаевич верховодит, но… не дай бог, не дай бог.
Соснин считал дни до очередной прогулки. Хотя дед и внук виделись почти ежедневно на Большой Московской, в обеденный перерыв деда, когда тот, если не мучил кашель, успевая забавно погримасничать, попичкать Илюшу каким-нибудь рокочущим – во дворе трава, на траве… – или шипящим стишком – четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж, – торопливо разрезал вдоль французскую булку, делал себе два бутерброда с любительской колбасой, совсем уж торопливо жевал, запивал чаем. Дед работал рядышком, на углу Владимирского и Стремянной, в магазине «Ткани»; в затрёпанной трудовой книжке деда, которую мать с беспомощным вздохом, как горсть земли на гроб, бросила в саквояж, прежде, чем его захоронили на антресоли, было записано – товаровед.
О, он ведал, ещё как ведал!
И насквозь, верилось, видел плетения пряжи, чуть ли не знал заранее свойства льна на корню или нрав овцы, одарившей шерстью.
С первого и беглого взгляда мог безошибочно оценить… впрочем, он и с закрытыми глазами распознавал примеси искусственных волокон, некачественный состав красителей. Дрек! – презрительно плюнул дед в хвалёную новинку социалистической химии, мать едва не заплакала от обиды – погналась за модой, отстояла очередь в Гостином за штапелем на сарафан и… Вбежала возбуждённая Раиса Исааковна, принесла на экспертизу Эммануилу Савельевичу удачливо – поставщик салаки из Усть-Луги звякнул в ДЛТ – купленное букле от комбината имени Кирова, а у деда… – крепким выраженьицем припечатать товар, доставшийся гостье, было бы неприлично, да и стоил ли тот товар даже ослабленного ругательства? – дед брезгливо изогнул, обнажив редкие зубы, губы, подцепил ногтём цветную нитку, легко выдернул и молча помахал ею в воздухе, как если бы опозорил на весь мир краснознамённое мощное предприятие. Однако изречённые ли, подразумеваемые оценки наотмашь не доставляли деду профессионального удовольствия, дрек и есть дрек, интереснее было распознавать сколько-нибудь искусную подделку… Но и тут деду не требовалась помощь костяной трубочки с лупой, не английский бостон, не лионский шёлк всё-таки, всецело доверялся двум пальцам руки – большому и указательному, которые, сближаясь и нежно сжимая ткань, замыкали на манер катода с анодом цепь, образуя безжалостный аналитический прибор; несомненно, главным органом чувств деду служило осязание, хотя тактильные свидетельства, пугающе-точные, пропадали втуне; грубоватые свойства отечественных тканей не нуждались в тонком анализе, а репутация передовых камвольно-суконных производств, понятное дело, не позволяла деду замахиваться на большее, чем благодушное разоблачение технологических шахер-махеров, пусть и по-своему изощрённых… Однако редкий дар деда, когда в руки ему попадалось хоть что-то достойное, не удавалось скрыть. Лихорадочно взблескивали из-под приспущенных век зрачки, подёргивался длинный нос; от облика безумца, осторожно ощупывающего, обминающего подушечками пальцев ткань, веяло древней магией.
всего
одно
словечко
на
идише,
концентрат
магии
Вот хотя бы! Соркин достал благодаря пациенту, связанному с торговлей, отрез «Ударника»; Григорию Ароновичу сшили в академическом ателье шикарный тёмно-синий, в еле заметную, тускло поблескивавшую полоску, костюм; Эммануил Савельевич из любви к искусству прощупал, блаженно опустив веки, рукав.
О, деду сразу в с ё стало ясно, он долго откашливался, молчал, губы медленно растягивались в хитрой улыбке, наконец, проронил: эпес.
Перевести «эпес» с идиша на русский можно было как «кое-что», но сколько иронии, перетекающей в скепсис, сколько яда, горькой мудрости и снисходительной доброты умещалось в сцепке из четырёх всего букв!
А как произносил его, это летучее многозначительное словечко, дед! Вот она, магия, на сей раз словесная, звуковая и интонационная; концентрированная магия… Похвала или приговор обнове? У Соркина язык отсох, никаких шуточек.
Эпес.
«Е» звучало в устах деда как полу-е, полу-о, получался почти что эпос.
Н-да, кое-что как эпос.
«Кое-что» или, допустим, «что-то», стоит ли обсуждать? – заведомо бессодержательный, вездесущий паразит речи, штампик разговорного мелкотемья. Но благодаря магическому исполнению деда, благодаря фонетическим колебаниям между «е» и «о», пустоватому словечку сообщалась исключительная весомость.
растянутый
миг
счастливой
игры
с
материей
(на углу Владимирского и Стремянной)
Дед отсиживал рабочий день в душной и темноватой… – на стопки ярлыков, актов и рекламаций, ими был завален маленький стол, падал лишь конусом свет из настольной лампы, – так вот, дед-астматик трудился в душной, темноватой каморке, располагавшейся за подъёмной доской прилавка, в торговом зале появлялся редко. Там толпились, размазывали подошвами слякоть по полу, собранному из рваных осколков мрамора, покупатели, от расплющенных рулонов, которые ярко громоздились на полках, исходил тяжёлый дух; к гулу голосов, прошитому пулемётной стрельбой из кассы, подмешивался еле различимый текучий шелест отмеряемой материи, шелест перешибали глухие удары штук материи о прилавок… Это зрелище струившихся и свёрнуто-отверделых тканей, эти звуки бросали Соснина в необъяснимый трепет, вспоминались, когда рассматривал драпировку на картине или касался женского платья… вспоминались потому, что повезло застать деда врасплох, в счастливые мгновения?
Дед подменял заболевшего продавца.
А Соснин бежал по Владимирскому в кино и…
За стеклом неожиданно увидел деда с плоским деревянным метром в руках и пробрался в переполненный магазин, притулился за громко содрогавшейся кабинкою кассы – как ловко орудовал дед желтоватым лакированным метром с чёрными сантиметровыми рисками, заострёнными железными наконечниками! Вдохновеннее и резче, чем у танцора-кавказца, взлетали руки – одна, вытянутая во всю длину метра, другая – согнутая в остром локте… и ещё он быстро-быстро, будто ритмично кивал, прижимал отмеряемую ткань к груди сминавшимся подбородком, и, отмерив, лихим взмахом ножниц отрезал полотнище с сухим резким треском; словно горящие поленья потрескивали…
Весёлыми крыльями экзотической стрекозы плескала набивная полупрозрачная ткань, тускло поблескивал сатин, стекавший с прилавка, сукно ниспадало солидными складками, а дед, такой анемичный, медлительный – разматывал массивные рулоны, обретавшие волшебную воздушность, отмерял, отрезал и даже накалывал чеки в порыве счастливого сумасшествия; губы не покидала придурковатая улыбка всеведения, руки, священнодействуя, порхали, не знали устали.
с
дедом,
по
пути
в
эвакуацию
Как всё смутно, отрывочно…
Розовая, словно атласный лоскуток из саквояжа, ладожская вода в исцарапанном стекле катера, ловко уходившего от бомбёжки, – вода вскипала впереди, сбоку. Потом – нудный поезд, пересадка на многопалубный пароход, грязная каюта с наклонным потолком под крутой корабельной лестницей, нескончаемый топот – сапоги, ботинки всю ночь били по голове, утром проплыл белый казанский кремль… Переправлялись в широкой глубокой лодке с испещрёнными щелями скамьями и лужей на дне; некрасивые бабы в цветастых платках, с котомками… в котомках кудахтали курицы. Косматый, бородатый, в мешковатом домотканном зипуне перевозчик догрёб до середины реки и вдруг поднял тяжёлые вёсла, лодку вкось от далёкого причала сносило течение, заросший, как леший, гребец отдыхал, зачерпывал за бортом деревянной ложкой воду, пугающе покалывая Соснина хищно-остренькими бледными глазками, жадно пил. Соснин обомлел… пронзил испуг, какой-то впервые испытанный метафизический ужас? Стоило поднять голову, осмотреться, его бы успокоили зелёные берега с берёзами, кудрявыми ольховыми колыханьями, но пугающе-колкий и бесцеремонно оценивающий взгляд перевозчика заставил потупиться – видел только нервно струящийся блеск, который зачерпывался грубо выдолбленной, потемнелой ложкой.
Била дрожь.
Дед обнимал за плечи, будто мог защитить.