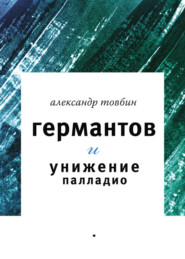По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шутка обэриута
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Обескураженный видениями, естественно сопрягавшимися с пестротой площади, замер; куда податься?
Осмотрелся, – в левом крыле дома с буквенной вязью «Владимирского пассажа» и универсама «Лэнд», дома, «главного» на площади, отторгавшего потуги на доминирование соседнего мутанта-нувориша… Славно, сохранился «главный» дом! Не надеялись спасти: в конце восьмидесятых, необитаемый, с выбитыми стёклами, разваливался, но подвели под старые фундаменты сваи, стянули стальными, на болтах, пластинами трещины; благодаря настырности торгового капитала, просчитавшего свою выгоду, сохранили, да ещё крышу (угол наклона) приподняли, разместив в мансарде гостиничные номера, – отнятый у разрухи, внушительно нарастил мускулатуру; так вот, так вот, в левом крыле спасённого дома, мощно и, признаем, самоуверенно возвысившегося над площадью суровыми щипцами-фронтонами северного модерна напротив барочного, виновато-съёжившегося, признав пространственную власть визави, собора, была булочная, в ней покупал я тёплые слойки, сайки, халы, батоны с изюмом, медовые пряники, сласти: мармелад и пастилу, присыпанные сахарной пудрой брусочки, – белые, розовые…
И что сейчас?
Преемственность соблюдена: в бывшей булочной, – британская кондитерская, British Bakery, с литографиями аббатств и замшелых замков, малиновыми бархатными диванами с валиками и высокими, под литографии, спинками, с мозаикой пирожных в пузыре шикарно изогнутого прилавка-витрины…
А в правом крыле массивного дома аптеку с монументальным кассовым бастионом, старомодной стойкой красного дерева, окантованной зеленоватым матовым стеклом с полукруглым окошком, и сплошь собранными из выдвижных ящичков шкафами вдоль стен, после евроремонта заменил голый, – глазу не за что зацепиться, отклеился лишь уголок рекламы Аэрофлота, – вестибюль гостиницы «Достоевский», да-да, Dostoevski; проживал и умирал классик поблизости, а согбенно-скорбный памятник ему – в двух шагах; окаменевший понурый классик, у метро, в истоке Большой Московской, в безутешной задумчивости присел среди снующих туда-сюда, не замечая своего создателя, персонажей, – благодушно оценивал я удачные для маркетинга имя и локацию литературной гостиницы; к тротуару причаливал слоноподобный автобус с интуристами…
Далёкий от восточного мистицизма, не мог сосредоточиться, не мог медитировать, глядя в точку, – обуреваемый смешанными чувствами, мало-помалу забывал о тревогах своих, доверчиво окунался в волны городских впечатлений, легкомысленных отвлечений, наитий, воспоминаний, которые не омрачали настроение моё. Хорошо-то как! – хорошо, что вернулся, погода – отменная. Упиваясь нечаянной радостью, вертел головой; солнце расплывалось по тонированному стеклянному лбу автобуса тёплым масляным бликом.
И – укол:
Так зачем, собственно, я вернулся? – не затем же, чтобы сладко зажмуриваться на Владимирской площади.
Практическая цель моего возвращения, – столь поспешного возвращения! – для меня, как ни странно, оставалась загадкой. С неделю назад, так же, как сейчас, зажмуриваясь и с удивлённой благодарностью открывая затем глаза, я попивал красное винцо в Сиене, на Пьяцце дель Кампо, любовался из-под зонта кафе радужной короной над головкой сторожевой башни палаццо Пубблико; синяя тень башни рассекала надвое затопленную розоватым маревом площадь-раковину… и чего не хватало мне для полного счастья? Случился, однако, обрыв созерцательной безмятежности, – сердце, сбившись с ритма, сильней обычного толкнулось в груди, внутренний голос промолвил настойчиво: тебе надо вернуться в Петербург, и – поскорее.
Предупредительно-тревожный сигнал, лишь заставлявший насторожиться? Интуитивно-смутное оповещение о чём-то, что стоило принять во внимание, посчитать руководством к действию?
А если тревога – ложная?
Хотя я планировал вернуться через месяц, а пока намеревался посетить Зальцбург и Мюнхен, я, покорный сердечному толчку, прокомментированному внутренним голосом, который вывел из созерцательной сиенской нирваны, не мешкая, собрал дорожную сумку и – вернулся, как если бы в Петербурге меня кто-то ждал.
Вопрос ребром: почему же, почему я вернулся?
Почему сорвался, как угорелый, словно красоты Пьяццы дель Кампо меня обратили в бегство, и… – состарившись, впал в детство, сделался «почемучкой»? – так вот, я здесь, в своём гнезде, а почему, зачем вернулся – не понял: разморённый разум дремал, а растревоженное сердце разве не могло бы и на том успокоиться, что мне, избалованному в последние годы итальянским солнцем, и сейчас, на солнечной Владимирской площади, легко и хорошо на душе?
Легко, хорошо…
Хорошо-то хорошо, но почему горчит во рту?
И хорошо всё же или – не хорошо?
В том-то и фокус: союз «или» противопоставляет, а мне и хорошо, и – не хорошо.
Горечь, условный слюнный рефлекс, яд сожалений и опасений?
И не потому ли горечь не проглотить, что вопреки статике камней, поток перемен, – скажу яснее: поток времени, невидимый, но болезненно ощущаемый, мешает зафиксировать statu you? Вслед за щербатой ступенькой, о которую я спотыкался тысячу раз, исчезали незримые связи с…
И если сверлили только что мистические взгляды мнительный мой затылок, то не потому ли сверлили, что заподозрили чужака, – для моей площади я стал инородным телом?
Состарился, утратил любовь пространства?
И – способность додумывать хотя бы простые мысли?
Снова повертел головой: нет, хуже, – ни свежеокрашенная колокольня с небесными зияниями, ни хмурые охранители мои, многоглазые дома, залепленные безвкусными вывесками, рекламами, меня уже, показалось, не замечали, как если бы связи со мной утратили, как если бы меня вообще не существовало на белом свете… что могло ждать в пространстве, которому я не нужен, – дожитие пустых дней моих?
Вернулся, вернулся, вернулся, – заладил, отгоняя назойливые вопросы и путаные сомнения, внутренний голос.
Однако – опять: пусть и проигнорированный родимым окружением, ради каких подвигов, судьбоносных встреч, на худой конец, – неотложных дел, я, чёрт побери, вернулся? Увы, ничего, кроме приближавшегося конца, не ждало меня…
Суетные, как муравьи, горожане, – включая тех, чьё поведение корректировалось плоскими смартфончиками-айфончиками, приложенными к ушам, – знали, куда спешат, знали, что им надлежит сделать, с кем встретиться, где развлечься, а я…
Поспешно вернулся, чтобы до меня, обосновавшегося в центре Вселенной, то есть именно здесь, на Владимирской площади, дошло, наконец, что Вселенная, не заметив потери, вскоре отлично без меня обойдётся?
Вскоре? – опережая естественное течение времени, репетировал своё отсутствие в будущем, до которого, как до смерти, четыре шага всего; бесхитростные мыслишки маниакально закольцовывались: по кругу, по кругу…
Так был я здесь и сейчас, никому не нужный, или отсутствовал? – впору себя ущипнуть. И… – реален ли этот овощной и фруктовый развал: фигурные помидоры, глянцевые, трёх цветов, перцы, фиолетовые баклажаны, чернильно-чёрный, зелёный и густо-розовый виноград, персики с синяками на багровых щёчках, бледные жёлтые груши, – красотища! Но всё-таки – верить ли, не верить глазам? Натуральная плодовая выкладка или коллаж из муляжей, пригодных только для натюрмортов?
Итак: был я или – отсутствовал?
Ну да, – вспомнил, – быть или не быть?
Слов нет, актуальный вопрос на старости лет.
И если нет вокруг никого, кто мог меня знать, мог засвидетельствовать моё присутствие в этом мире, то и не было меня, не было…
Ещё не отрезвев от солнечного коктейля видений, вертел головой, хотя – всё более раздражённо: обидная квазидостоверность, всё – знакомое до горьковато-умильных слёз, и – отчуждённое, равнодушное, поникшее, квёлое.
Так, вернулся.
Вывески поменялись, энергия окружения иссякла…
Вдохнул, как если бы брал последнюю пробу; изменился состав воздуха?
Снова глубоко вдохнул, снова проглотил горечь; дышал чужим временем, – возможно такое?
И мало того, что я, прошагавший долгую жизнь свою не в ногу с колоннами современников, был один на один с площадью, настороженно-отчуждённой, был один на один с Петербургом, с деловитой гордостью переживавшим туристический бум, а обо мне позабывшим; пожалуй, сейчас и здесь, в персональном пространстве своём, я пугающую двойственность уловил, да-да, я был, несомненно, был здесь и – здесь же – отсутствовал, что-то новенькое, одновременно быть и не быть, поразительно! – всё узнаваемо, но, и, правда, ни одного узнаваемого лица, пусть постаревшего, я не смог бы выудить в равнодушном броуновском движении. А когда-то на площади, у булочной ли, аптеки, керосиновой лавки, мне адресовались кивки, улыбки, приветливо-небрежные взмахи рук.
Ну почему же ни одного?! – за витражом британской кондитерской увидел популярного актёра соседнего театра «Ленсовета», на сей раз – в роли экзотичного, не от мира сего, футбольного болельщика с сине-белым шарфом «Зенита», повязанным небрежным узлом на шее, – кумира спортивных телепередач, где эксплуатировалось амплуа преданного клубу чудака-юмориста; в кондитерской, пожалуй, он был ещё и в образе потрёпанного страстями, нервического героя-любовника почтенных лет, с всклокоченной седоватой шевелюрой, дряблыми от макияжа щеками и внушительным, как у каменного топора, профилем, – актёр-болельщик, сочетая в богемно-вальяжном облике озабоченность и расслабленность, восседал на малиновом диване, нервно нажимал кнопки мобильника, умудряясь при этом лениво помешивать кофе.
Уют, покой; плафоны изливали медовый свет…
Но! – к актёру подбежала яркая девица, склонилась к уху… я не знал, чем бы себя занять…
Тем временем из чрева автобуса, из дверцы в лакированном синем боку, аккуратным ручейком потекли в вестибюль гостиницы «Достоевский» одинаковые американские пенсионеры, а я, готовый «от нечего делать» вновь погрузиться в смешанные мысли-чувства свои, но – за чашечкой кофе, ибо наглядный пример актёра-гедониста не мог не быть заразителен, – ощутил, как недавно в Сиене, толчок в груди; повиновавшись сердечному толчку, чудесно опознав его направление, шагнул в просторный, с отблесками плоских настенных витрин, тамбур-антре «Владимирского пассажа».
И – увидел отца, идущего мне навстречу.
Разорвался круг мыслей?
Умопомрачение?
Чуть опущенная голова, шаркающая походка… и опомниться не успел: фигуру отца по вертикали, идеально ровно, как бритвой по линейке, разрезала на две симметричные половинки щель, расширявшаяся влево и вправо, – автоматически разошлись полотна стеклянных дверей, я понял, что передо мною был не отец, а моё шагавшее навстречу отражение в зеркальном стекле; постарев, я стал пугающе похож на отца.
Так я это был или – не я?
Довесок замутнённого смысла к солнечным радостям…