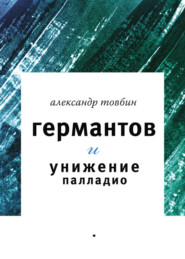По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шутка обэриута
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Милыми, никчемными… и – ужаливающими.
Отец с матерью обживали неуютные времена, – выкашивал друзей и знакомых большой террор, а они, повинуясь простенькому закону самосохранения, отводили глаза от общей беды; отец, судя по запискам, так ловко цензурировал своё прошлое, что мог показаться предельно искренним: страх пропитал сознание? – грех жаловаться на беспощадность судьбы, с другими бывало хуже, гораздо хуже, но, даже потеряв любимую работу после «дела врачей», когда оставил прикованных к кроватям юных пациентов и вынужденно покинул Крым, отец и этого болезненного эпизода биографии, оценённого им самим как «мелкие неприятности», лишь бегло касался, хотя делился своими воспоминаниями в вегетарианские брежневские годы, ничем всерьёз не угрожавшие ему; к сожалению, тусклыми получились воспоминания, – не найти в них не только драматизма времени, но и личной, внутренней боли: драма всякой, пусть неприметной жизни, – обманутые надежды, – будто б не задела отца…
Скрытность как сверхзадача?
Жизнь, где потери не в счёт, – особый, размагниченный максимализм! Отец ведь был максималистом в жизненных и сугубо медицинских задачах своих, но при человеческих достоинствах и профессиональных талантах, – повторю: он был великолепным хирургом-ортопедом, делал сложнейшие операции на сгнивавших детских суставах, обожал маленьких пациентов своих, всех помнил по именам, следил за их послеоперационными судьбами! – не обладал литературным даром; правда, трезво себя оценивал…
Я примазался к компьютеризованному большинству кофейни, открыл ноутбук, где хранились отцовские мемуары; вот, пожалуйста, страница 96: «Подходя самокритично к этим запискам с точки зрения их литературной значимости, я оцениваю их отрицательно. Они носят хроникальный, а подчас сумбурный характер, в них по существу представлена лишь череда событий и происшествий, составивших мою жизнь, но неполно и недостаточно выпукло изображён её богатый фон и люди, которые, так или иначе, влияли на моё поведение и поступки. Словом, запискам, чувствую, не хватает именно того, что могло бы сообщить им качества подлинно литературного произведения».
«Занимает меня также вопрос о том, не выгляжу ли я в своих записках этаким паинькой без недостатков, а если и выгляжу паинькой, то не грех ли это простительный, объективно свойственный мемуаристам»?
«Свойственный»? – ну да, отец прав, всякий мемуарист облизывает себя, с этим не поспоришь.
И ещё фраза из психологически загадочных, – стоило ли при столь безнадёжном настрое ввязываться? – самоуничижительных признаний:
«Заранее задумываясь над тем, чем станут мои записки, задаюсь вопросом – нельзя ли будет оправдать их появление лишь мороком графомании, подспудной тягой к бесплодному, пустому сочинительству…»
Да, рукопись без намёка на интригу ли, приключение, в естественном самотёке лет приплывшая из ящика отцовского письменного стола ко мне, законному наследнику, была так себе: «правильный», тускловатый язык, линейность повествования, отсутствие оригинальных идей, чувств, питающих спонтанную прозу, и – минимум воображения; не поспоришь, и не пахнет литературным произведением. Но нет и бесплодного, пустого сочинительства. Хотя бы потому нет, что страницы мемуаров волнующе сопрягались со звуковыми иллюстрациями и примечаниями к ушедшему времени, которое отец пытался сберечь по-своему: без курсивов и изъятий, «всё», безотносительно к «интересности», но – с важной добавкой; да, было удивительное к двум толстым папкам машинописи аудио-приложение на крупных, презабавно контрастирующих ныне с миниатюрным «хайтеком» плексигласовых бобинах с красноватой плёнкой; бобины аккуратист-отец пронумеровал… в совокупности с внушительными бобинами и сами скучноватые мемуары, при опосредованной связи с записями на плёнках, превращались в уникальное послание, хотя отец не уточнял, на какого будущего читателя-слушателя с исследовательской жилкой он мог бы рассчитывать, запуская в гостях у умнейшего друга своего, Бердникова, которого боготворил, громоздкий неподъёмный магнитофон «Днепр». На ветхих, склеенных ацетоном плёнках жили голоса умерших, – отрешённые ли, страстные, до хрипоты, споры за круглым столом в Толстовском доме, свидетелем которых и я зачастую оказывался, отец брал меня с собой в гости в воспитательно-образовательных целях, – я, далеко не всё из сказанного там понимал, но «впитывал услышанное, как губка»; крутились бобины, голоса превращались в контрапунктный комментарий к бумажным мемуарам отца…
Как машинописным, (бумажным), в пропылённых папках, и звуковым, на доисторических бобинах, богатством распорядиться?
Ещё раз: идущий навстречу отец, вручение клоуном карточки-приглашения, – сиюминутные, но многозначительно совпавшие факты; не взяться ли за расшифровку посланий Случая?
И не для этого ли я в Петербург вернулся?
Поразительная предусмотрительность!
Ведь я, – пропылённые папки и бобины сейчас для красного словца упомянуты, – не иначе как по подсказке случая, опередившей сам случай, исподволь готовился к расшифровке, отсканировал машинопись; сотни страниц из отцовских папок (без всякой пыли) уже хранились в ноутбуке с диагональю в сколько-то предписанных стандартами дюймов, и, само собой, с ёмкой и быстрой памятью…
Мало того.
Я давно прослушал начало плёнки на бобине с римской цифрой 1; застольные говорения из середины минувшего века, доносившиеся сквозь потусторонний гул, шумы и помехи, меня за живое тогда не взяли, однако я перевёл содержимое всех бобин в звуковой файл, приложение так приложение, – авось, – возгордился, исполнив элементарный сыновний долг, – когда-нибудь любопытство взыграет, чему-то дельному послужит, актуально зазвучав, этот ветхозаветный хлам.
Сканировал бумажные записки, оцифровывал впрок бобины, но умудрился о заготовках своих забыть?
И, пожалуйста: настало «когда-нибудь».
Настало, действительно настало, – не погнаться ли за смыслами почившей эпохи?
К столику моему, точно вызванное такси, с едким выхлопным дымком подкатила машина времени, я залез в удобную, с кнопочным пультом кабину и, будто бы включая радио-музыку, открыл звуковой файл с голосами мертвецов, выхватил наугад обрывок разговора, но, опомнившись, приглушил громкость, чтобы характерные тембры и интонации далёких лет, к которым боязно прикоснуться слухом, не вклинились диссонансом в благопристойный гул кофейни.
Да, ещё раз, для самоутверждения: поначалу несерьёзно отнёсся к голосам мертвецов, буднично и, как выясняется, впрок, озвучивавших своё горькое время… Но – сберёг ведь, сберёг…
.
Так, голос Савинера, – незабвенная сага о весеннем ледовом хаосе в устьях сибирских рек; дальше-то, после нескольких оборотов бобины, что?
Опять Савинер:
– «Павел, просвети: почему сердце бьётся в груди, не в голове? Не уместилось меж мозговыми полушариями? Упущение Создателя»?
– «Сердце в груди бьётся, как птица», – напевное легкомыслие; отец?
«Почему в груди, не в голове»? – зануда-Савинер отжимает серьёзность из легкомыслия.
Пауза и… – ответ Бердникова:
– «Высокий умысел».
– «Чей»?
– «Создателя».
– «Цель»?
– «Продуктивная дихотомия».
……………………………………………………
Далёкий гул, потрескивания.
И… ого! – прошелестевшая тишина обновила тему:
«У зодчих и ваятелей античности, на пластические совершенства коей молимся мы теперь, был отвратительный вкус: вульгарно яркие храмы, скульптуры… – Илюша, тебя не оскорбил бы в пух и прах размалёванный Парфенон, доживи храм в красе первозданной своей безвкусицы до наших дней»? Да, голос узнаваемый, – Бердников! Он, помню, с серьёзнейшей миной, наморщив лоб, подшучивал надо мной, тогда – студентом, как пристало неофитам, пристрастным и догматичным; после провокационной тирады Бердникова относительно петушиной яркости Парфенона раздаётся смех, далёкий-далёкий, но – внятный…
Да, смеётся отец! – суховатый, чуть дребезжащий смех, – глянул на мою растерянную физиономию и рассмеялся?
В паузе звякает о чашку ложечка.
Тогда или сейчас?
Мороз по коже.
Внимая конкретной музыке кафетерия, испытал нежную благодарность к отцу за чудную посылку из загробного мира, собранную из звуков минувшего, как если бы только что её получил: да, мемуары, – так себе, не суждено было отцу изобрести литературный порох, но «звуковое приложение» меняло дело…
Каким же мудрым и прозорливым, оказывается, был отец! И почему так запоздала благодарность моя, почему при жизни его я не находил тёплых слов? – я вообще с опозданием испытывал ответные чувства: не чувства, как полагалось бы по негласным нормам «настоящего» писательства, стимулировали и одушевляли, по мере сочинения, текст, а напротив, сам текст, если точнее, предощущения его, неслышная, загодя изводящая какофония, сбивчиво-неуловимые ритмы и рваная, лишь мечтающая о гармонии композиция, возникнув из ничего, из таинственного внутреннего стимула, затем, после сложения формы, могли пробуждать живые чувства во мне.
Чувства вины, стыда…
Именно так, – текст, ещё не сложившийся, опережал чувства, которые должны были бы стать его побудителями…
Я жил – постфактум?
Да, принципиальный (первородный) изъян… вот если бы сердце переместить в голову, связать с мозгом…
Из родичей своих близок я был только с дедом, он потакал причудам и капризам моим, в коих усматривал «увлечения», – я, к примеру, из камушков, щепочек, выброшенных на берег морем, и пляжных ракушек мог часами, съедавшими строго установленное матерью режимное время обедов и полдников, лепить из мокрого песка невиданные островерхие дворцы, обречённые на быстрое разрушение, а дед не торопил, не смотрел на часы, – верил в заведомую полезность всех проб и ошибок моих для воспитания чувств, а уж как нахваливал рисовальные каракули… Дед впервые меня к морю привёз, с тех пор сохранилось воспоминание, набухшее солнцем, блеском, кропившее солёными брызгами; из приспущенного окна несло паровозной гарью, за тенью вагонов куда-то назад убегали крыши покосившихся изб с пятнами мха, корявые яблоньки, пугала на огородах, колодцы, шесты со скворечниками; печальный бесконечный пейзаж… и вдруг, после чёрной прослойки ночи, – море!
Да, деда, подарившего море мне, чуткого и заботливого, не могу забыть; я рос как бы помимо родителей… Натерпелся материнских, сопровождаемых назидательными вздохами, укоров и понуканий, но почему с отцом, не «воспитывавшем» меня, не… – отцу-стоику, инстинктивно чуравшемуся эффектных слов, поз, делавшему тихо целительное дело своё и на войне, под бомбами, за операционным столом, не хватало яркости? – он и умер буднично и тихо, как жил.