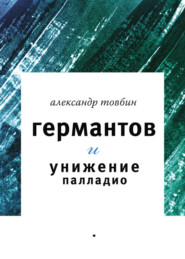По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шутка обэриута
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
О, кстати, кстати: девушки нового, прекрасного, хотя дрейфующего, на взгляд информированных – или дезинформированных? – паникёров вроде меня, к опаснейшим рифам мира, были свежи, воздушны, за такими эфирными созданиями, – в оттепельные годы, когда был острый дефицит фальсифицированной французской косметики, а кибернетику как лженауку ещё не реабилитировали, – и мы, грешные, увязывались на улице ли, в метро, но ведь и тех оттепельных девушек внучки красой и ухоженностью своей теперь ласкали мой пресыщенный взор, а искусная их искусственность, позаимствованная у глянцевых журналов, даже их электронная защитно-наступательная оснастка, которая в приливах старческой придирчивости могла бы мне казаться чрезмерной, вовсе не провоцировали поколенческую фобию: в конце-то концов, замшелый пень, – дураковато-примирительно улыбался я, – в чём их, в наркотическом забытьи ласкающих наманикюренными пальчиками плоские игрушки свои, вина? В том, что родились на пару поколений позже меня, сверхбыстрая, чуткая к тактильным касаниям электроника, осваиваемая ныне в колыбели, столь же естественна для них, как когда-то для меня – перья «уточка», тетрадки в клеточку или косую линейку.
Официантка принесла вторую чашку капучино с ванилью, глянцевый пакетик с фисташками; мир и покой?
Так было, так будет… ну да, солнце всходит, заходит; круговорот надежд, угроз… и – прочь маниакальную закольцованность, бесплодность старческих размышлений…
Но – банальная констатация: оскаленный миллионами стандартных улыбок человек-соглашатель, освобождён от гордой, Просветителями завещанной миссии.
Гордец измельчал, обмяк, миссия исчерпалась.
В чём же принципиальное отличие нынешнего времени от минувших времён?
Меня с давних пор волновало рассуждение Германа Гессе, точнее, – глубокого, старомодного и странноватого, не от мира сего, персонажа его, Гарри Галлера, в начале «Степного волка», я запомнил то рассуждение дословно:
«Настоящим страданием, адом человеческая жизнь становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры и две религии. Если бы человеку античности пришлось жить в Средневековье, он бы, бедняга, в нём задохнулся, как задохнулся бы дикарь в нашей цивилизации. Но есть эпохи, когда целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищённость и непорочность! Конечно, не все это чувствуют с одинаковой силой. Такой человек, как Ницше, выстрадал нынешнюю беду заранее, больше, чем на одно поколение, раньше других, – то, что он вынес в одиночестве, никем не понятый, испытывают сегодня тысячи».
Написано около ста лет назад…
И давно закончилась – известно, чем и кем! – версальская «фельетонная эпоха», разладом с которой мучился Гарри Галлер.
Что же меня с пунктиками моими, если угодно, с бзиками, «с заморочками», как не без снисходительных усмешек сказали бы молодые люди, мило кайфующие вокруг, гнетёт, когда осчастливил оцифрованный до стерилизованных молекул и доставленный в каждый дом глобализм, порождённый сверхэгоизмом успешных стран, когда хищные щупальца вездесущих коммуникаций придушили высокие цели, и, пуская рекламную пыль в глаза, подменили их, бывшие цели, торопливыми средствами, от которых уже нет защиты… – короче, как ни крути, пересекаются ныне в ранимом индивиде не две эпохи, но множество эпох и укладов, а образ триумфального глобализма – дробится в зеркалах вездесущих коммуникаций, где дробятся и спутники индивидуальных миров: духовные ценности, вечные темы, ходячие сюжеты; и не рыпаться надо, а с растерянностью умов и сердец смириться? – раскололись на тысячи мелочей и безбожно перемешиваются добро и зло, белое и чёрное, вчера и завтра; вулканическая энергия, – бешеная агрессия? – бурлит под гламурно-благостной оболочкой, как закипающий чайник. А поднимешь голову, – созвездия и те не на своих местах, небосклон подменили.
Подношения новейшего времени старикам?
Когда-то, – незадолго до смерти, – тот же Гессе заметил в одном из писем, что мир периодически делается непереносимо гнусным, чтобы старикам такой мир не жалко было покинуть…
Да, в романе Гессе радиопомехи мешали Моцарту, а ведь Гарри Галлер, раздражённый радиопомехами, при всей проницательности своей не подозревал, что после радио… да, цифровые технологии, затыкающие миллионы, если не миллиарды, ушей музыкой масскульта, устранили примитивные технические помехи, но всемирная разноголосица, пусть и разноголосица немузыкальная, терроризирующая смысловое безмолвие, воспринимается ныне как рёв глушилки.
Фисташки были отличными, слегка поджаренными.
Так, двери – разошлись влево-вправо, отец, разрезанный по вертикали на половинки, исчез.
Не поручусь за точность мгновенного впечатления, но у отца, отменно «сыгранного» мною, был укоряющий вид…
И не зря я внезапно, на миг всего, встретившись с отцом, почувствовал себя виноватым, не только перед отцом виноватым… – я был плохим сыном, плохим любовником, плохим мужем?
Был поглощён собой, как иронизируют ныне, – собой-любимым?
Но чем провинился я перед умершими, – эгоизмом, холодностью, равнодушием, тяжёлым характером?
Да, стыдно; но поздно себя корить, ночные угрызения совести не воскресят тех, кому я причинял боль, вина моя в том, что сам я пока что жив.
Вот-вот: «пока что»… смотреть назад стыдно, вперёд – страшно
.
И чувство стыда, питаясь чувством вины, пугающе обостряется, как если бы я всех их, ушедших близких моих, медленно умерщвлял, ускоряя-усугубляя течение их болезней, работу генных механизмов старения; всё сотворённое – виновно?
Живых, – увы, временно живых, – мучит не только первородная вина, унаследованная от Адама с Евой, – слышим хруст, с которым надкушено было яблоко, и чувствуем себя виноватыми, – но точит ещё и добавочная, накапливаемая год за годом в греховных помыслах и поступках вина перед мёртвыми, умолкшими, беззащитными… её ничем, пока дышишь, не искупить, ибо у живых, втянутых в ускоряющийся бег дней, нет времени на деятельное раскаяние, участие, тем более – на искупление; вина искупается смертью: смерть, – абсолютный акт раскаяния и искупления, не так ли?
Так-то оно так, но не смахивает ли сия эгоистично отложенная зацепка на бесплатный выкуп пожизненной индульгенции?
Отец оставил подробные записки о своей долгой жизни, – он, ровесник века, умер в восемьдесят девять лет; смотрел телевизор и, возмутившись охамевшими депутатами-партократами, когда они сгоняли с трибуны академика Сахарова, скончался: я увидел жёлтую лысину, съехавшую с подголовника кресла, приоткрытый рот с пузырьком слюны на нижней губе… и – чуть выпученные опустевшие глаза; да, поразили глаза смерти, глаза без взгляда.
Отцовские мемуары производили противоречивое впечатление: внезапные эпизоды-вспышки из одесского детства, балаганно-нахрапистый хаос революции, дикая ожесточённость гражданской войны, – мимоходом, как что-то необязательное, ненароком схваченное индивидуальным видоискателем, да ещё: вплетённые в ветвистую родословную истории, не лишённые забавных штрихов портреты незадачливых предков моих по отцовской линии и, попутно, героев одесского фольклора, давно всем знакомых, увековеченных задолго до отца Бабелем, например, реального Мишки Япончика, то бишь, Бени Крика, – увы, и яркие сцены в отцовских записках бледнели, казались вторичными, хотя отец был искренним, давая волю перу; своими глазами видел, как некий комиссар застрелил Япончика-Крика на перроне Одесского вокзала, но все сколько-нибудь любопытные события – на тридцати-сорока страницах. Прочее в двух толстых картонных папках со шнурками-завязками, – пресная летопись, удивлявшая лишь бездумным игнорированием угроз, отцу повезло не угодить в политмясорубку; учился в медицинском институте, женился на пианистке, лечил костный туберкулёз, безнадёжные патологии, в таком-то году родился сын, то есть, я, потом – война, «от звонка до звонка», от поражений до победы; я пытался воскрешать будни неряшливо-кровавой, в известном смысле, «окопной», войны, не лишённые прифронтовой доблести, – полевой госпиталь в бесформенной палатке-хаки в нескольких километрах от передовой, отец, неутомимый и бесстрашный, под бомбёжками и артобстрелами, склонённый у операционного стола, торопливо и ловко режет, зашивает. Однако война в отцовском изложении протекала «равномерно» и «усреднённо», без эмоциональных перепадов и натуралистично рвущих душу деталей, в том-то и странность «скрытного стиля», в отцовских папках ни поражений, ни побед вообще не было; ох, найденная рукопись, – испытанный, если не избитый, приём романиста, зачастую – золотая жила повествования; увы, никакой рукописи я не находил, отцовские записки, много лет проспавшие в пыльном ящике письменного стола, вряд ли могли стать интригующей завязкой романа, а уж золотой жилой…
Время было обеденное, – экраны ноутбуков гипнотично мерцали меж вазочками с цветочками, кофейными чашечками, бутылочками минеральной воды, однако на столиках уже теснились и тарелочки с фруктовыми салатиками, бутербродиками, украшенными ягодками и травками, микроскопическими пирожными в гофрированных розеточках; чуть сбоку, на фоне эскалаторов и ленточных галерей, по-прежнему порхали трости и зонтики.
Да, не тянула отцовская, сотканная из умолчаний рукопись на золотую жилу.
Да, женился на пианистке; о матери моей отец писал, мягко говоря, дозировано; не мог простить романа с психиатром Душским?
Не мог, конечно, не мог, – отношения надломились.
Да, взбалмошная, – взбалмошность с сонной красой, гремучая смесь? – вскружила голову звезде ленинградской психиатрии, а вот в музыкальной карьере не преуспела, была неудавшейся, как сама считала, пианисткой; закончила консерваторию по классу фортепиано, дала несколько концертов в окраинных домах культуры, однако – недолго музыка играла: война, а после…
После войны жизнь худо-бедно налаживалась, но мать, мечтая о концертах в белоколонном филармоническом зале с поседевшими меломанами в партере и горячей молодёжью на хорах, отбивающей ладоши, кричащей «браво» и «бис», не боролась за исполнительский успех; думаю, мать моя маловероятного, – с шумными восторгами поклонников, – успеха побаивалась, так как с годами стала бояться любых перемен: вдруг послали бы на гастроли, на международный конкурс?
Да, вдобавок к тому, что отношения с отцом разладились, исстрадалась от своей музыкальной несостоятельности, возможно, надуманной; противоречивые чувства – и хочется, и колется, – наложили печальный отпечаток на всю её жизнь, не исключено, что она и умерла-то рано, внезапно угаснув, не от мигреней с головокружениями, на которые непрестанно жаловалась, – помню её на угловой оттоманке, накрытой стареньким узбекским ковром, с обязательным компрессом на лбу, – а от самоедских страданий…
И снова: и хочется, и колется, – улыбался из ветхого, с отломанным подлокотником кресла, отвлекаясь от тома Щепкиной-Куперник, дед; много лет, пожалуй, целую жизнь свою, читаю-перечитываю его улыбку, когда смотрю на серенькое фото, с раскрытой книгой, соскальзывавшей с коленей…
Да-да, жаждала успеха и – побаивалась его.
Мать играла для друзей, чаще всего, – этюды Шопена; домашние концерты в Крыму, где служил главным врачом евпаторийского курорта отец, врезались в детскую мою память: я вижу понурого, явно лишнего среди подвыпивших гостей молчуна-отца, вижу сорящего остротами героя-любовника, Душского, и, конечно, с поразительным эффектом присутствия вижу гостиную, оклеенную выгоревшими, кое-где залоснившимися и отклеившимися обоями, сборную мебель – громоздкие стол и два кресла от Собакевича, плешивый диван, рассохшиеся венские стулья, облупившийся белый рояльчик на пухлых ножках с латунными колёсиками; вижу распахнутую двустворную дверь на каменную, с балюстрадой и гипсовой вазой с настурциями, террасу, выдвинутую в звёздную ночь; едва затихали последний аккорд и аплодисменты, – громче всех аплодировал Душский, – слышно было, как кричали в саду цикады.
Да, Крым, цикады… – не могу забыть звеневшие в ушах ночи!
А отец? – несмотря на муки ревности, крымский период, связанный с любимым занятием, несомненно, был главным в жизни отца; после «дела врачей» он смог найти лишь рутинную работу в туберкулёзном диспансере на Лиговке.
Не от безнадёжной ли рутины, названной им «Лиговской повинностью», взялся он за перо?
Фото отца тех лет совпадали с отпечатками в памяти: полноватый флегматик, с выпуклыми водянистыми глазами, рано поредевшими волосами, – утомлённый жизнью, которую ещё не прожил.
Но в Крыму он преображался!
За полночь расходились, пропадая в темени сада, гости, и наутро, когда морской бриз начинал заигрывать с краем скатерти, я видел отца другим, совсем другим, – пружинисто-энергичным, подтянутым, готовым горы свернуть: аккуратист, каких мало, в светлой дырчатой тенниске, в кремовых широковатых, тщательно отутюженных им, «со стрелками», брюках, – мать и дед отсыпались, а я, проснувшись, нежась в постели, видел сквозь приоткрытую дверь отца, – что-то бодро насвистывая, радостно готовился к долгому лечебному дню; и вот, чмокнув меня в лоб, мельком заглянув в зеркальце у косяка двери, отправлялся в санаторий, совмещённый с клиникой, к больным детям, – спускался по ступенькам террасы, твёрдо и легко ступал по садовой дорожке неестественно – до голубизны – белыми парусиновыми туфлями, которые он вечером, – если были гости, то после прощальных поцелуев, ночью, – намазывал разведённым в жестянке зубным порошком; пахло мятой…
И что же Душский?
Ох, с психиатром Душским, с его глазками-пиявками, – табличка на двери кабинета: профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РСФСР Леонид Исаевич Душский, – судьба-выдумщица ещё сведёт меня, полтора месяца благодаря любезности профессора проведу взаперти, в больнице на Пряжке…
Впрочем, Крым, Пряжка – совсем другие истории.
А фигурная крышка концертного чёрного рояля, шикарного и нарядно-сиявшего, едва загоралась люстра с пятью рожками, – беззвучного, как драгоценное, музеефицированное украшение комнаты в коммунальной квартире на Большой Московской, – празднично поднималась редко, к моему сожалению, ибо я любил игру отражений в чёрном бездонном лаке, очень редко; рояль, дабы я лак случайно не поцарапал, защищала суконная, с протёртостями, накидка, я её, шероховатую накидку-попону, удостаиваясь раздражённого, дополненного вздохом замечания матери, из мелочного упрямства сдвигал со скользкого, расплющенного, словно вырезанного по лекалу из чёрного блеска крупа рояля, когда с тяжёлым, приятно оттягивавшим руку отцовским биноклем протискивался к окну, чтобы рассмотреть дом напротив. Дался мне прескучный, с плохонькой лепниной, (бедные маски, жертвы капремонта) дом с «придворным» гастрономом на одном углу и «Чайной» со ступенькой на другом углу, из окна моего невидимом, тут и бинокль не мог помочь, – под аккомпанемент материнских укоров детскому негативизму мне, помню, хотелось невидимый из окна угол увидеть и, конечно, то ещё хотелось увидеть, что пряталось за ним, хотя я знал, что за углом – истаивал в перспективе Загородный проспект, по нему я изо дня в день шагал в школу, возвращался из школы, ритуально спотыкаясь о щербатую ступеньку «Чайной»; неискоренимая, до глубокой старости дожившая страсть моя, – заглянуть за угол…
Возможно, впрочем, вовсе не прескучный, с обречёнными алебастровыми масками, фасад-визави привлекал меня, когда я, проворачивая рифлёное колёсико меж окулярами бинокля, приближал-удалял, наводя на резкость заплывшие, почти растворённые в пыли глаза масок, или, резко сдвинув колёсико, погружал в таинственные туманы то, что только что хотел рассмотреть, а летучие вспышки просвечиваемых солнцем тополиных пушинок, которые сдувал ветер со старых тополей, наваливавшихся на ограду Владимирского собора; наступала осень, не пушинки, а мокрые побуревшие листья срывал с тополей ветер, превращал в бескрылых обезумевших птиц… – чего я только ни повидал в окне моего детства, зажатый между роялем и рёбристой батареей! Кстати, справа от окна, над роялем, на фотографии в лакированной рамке, был запечатлён триумф матери: рука, взлетевшая над клавиатурой, восторженные лица покойников…
Но! – чересчур увлёкся милыми, хотя никчемными мелочами, с детских лет засевшими в памяти.