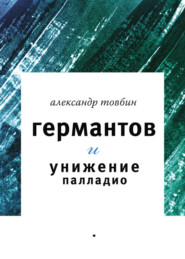По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приключения сомнамбулы. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Обнаружилась потерянная нить!
– Расквитавшись с завлекательным сюжетом, повествовательностью, за миф цепляются как за последнюю скрепу. Через пятьдесят лет после Джойса! Неужто, навсегда опьянили античные сказки, пусть и настоявшиеся в веках, будто бы вино в амфорах? Неужто, христианская культура рассыплется без связей с языческими героями и богами?! Мифология сделалась модным паролем современности, мол, рвёмся в будущее, подгоняемые ветром прогресса, но мы все оттуда. Запустили по кругу переложения прелестных баек, мечтаем покачаться заново в колыбели культуры, будто человечеству дано снова впасть в детство. Между тем античная энергетика исчерпана – вот и зачарованная усталость, климакс искусства. Желаний невпроворот, а приёмов схватывания, удержания Большой формы нет, как нет. Нужен прорыв: и охранительный, и варварский прорыв в неизвестность, как уже случалось. Дерзкая художественная мифология, пусть и вдохновляясь древней, античной, может, как доказано, обладать суверенной мощью! Я не о том, что «Улисс» затмил «Одиссею», избави бог, я о могуществе мифа, которым сам этот роман стал; один день вместил мир и…
– Сверхсложный роман?
– Главное – своевременный! И – на все времена!
– С чего бы это?
– Цепко и подробно схвачена-охвачена жизнь, вся жизнь! – ни у кого не получалось в конкретный календарный день все времена вместить. И вся-вся, огромная, необъятная жизнь, к которой, такой огромной, безграничной, не подступиться, – как будто под микроскопом! Каким образом жизнь схвачена? Время, сжатое до границ дня, вмещает целый объёмный мир, и потому всё, что происходит в этот день, обретает выпуклость, чёткость, все мелочи становятся удивительно значимыми, внутренне-весомыми, взаимосвязанными, – повернулся с сомнением к Соснину, поймёт ли? – едет колымага, жуют за стеклом кафе, кого-то хоронят, а действие, привычное нам, развращённым повествовательностью, романное действие отменено, сюжет парализован. Зато хочется следить за сменой формальных приёмов письма, в текст хочется всматриваться… тебе это должно быть близко.
И многие ли из сравнимых с Валеркой уникумов вытерпели прочесть, всматриваясь в детали, чтобы улавливать общий смысл, тягостный роман-миф от корки до корки? На русском, ибо перевода нет, вообще никто не читал! Однако могущество мифа было налицо, разрасталось. Валерке хотелось верить на слово, он-то читал «Улисса»; и уже прочёл «Аду».
– И знаешь почему ещё – «Роман без конца»? Великие модернистские романы я воспринимаю как недописанные, у них открытая композиция, их продолжат…
Над Невским, залитым ярким холодным солнцем, посвистывал ветер.
– Ну и лето! – поёжился, поднял воротник курточки, поправил шарф, – жаль, Шанский, наверное, ещё в Коктебеле, не погреться в его котельной.
Какая котельная в июне? – удивился Соснин, но промолчал; и разве Шанского не уволили из котельной?
Пьяно покачивалась фонтанная струя у Казанского. Синюю рябь канала заглаживали плоские льдинки.
– Конечно, миф соблазняет сочинителя циклическим временем, которое невидимым обручем удерживает текст от распада. Однако фокус не в сюжетах сказок, не в подвигах героев. Не надо путать причину со следствием! Мы – дети линеарного мира, ибо уверовали, что время направлено из прошлого в будущее. Голгофа разомкнула круговое время язычников – из календарной точки побежали по прямой годы… и на тебе – возвратная тяга на круги. Вот оно! Циклическое время – продукт вовсе не мифа, лишь задавшего циклическому времени формальную оболочку, но подсознания; в противовес условному, обслуживающему текущие идейки прогресса линейному или условно-спиральному – любимый образ марксистов – времени, напор самовыражения художника, его пытливая память самостийно способны вживлять цикличное время в текст без перемигивания с античной традицией. И в этом смысле романная форма – суть форма воплощения мифа. Да и наша спящая, погружённая в ужасные сны страна, её коллективное подсознание, в котором слиплись страхи и мечтанья многомиллионного имперского «я», стонет и ликует вовсе не в историческом, а циклическом времени. Пробуждения материализуют кошмары, страна встаёт на бой, – Валерка замер на краю тротуара, – такси сворачивало с набережной на Невский.
И будто сначала! Сам с собой спорил?
– Наскучили сочинения с последовательными временными коллизиями! Приключения в освоенном времени-пространстве буксуют, время, чистое время, для литературы всё ещё чуть ли не запретная территория… ну да, белое пятно… Время, – продолжал, – это не стрела, это среда, среда, эффект длительности усиливается в тесноте, толчее, все странствия Одиссея, все его приключения развёртываются на морском пятачке, утыканном карликовыми островками, но какое уплотнение времени, какая иллюзия протяжённости… – далее Валерка походя пнул ясперсовское осевое время, ему, дескать, не сладить из индивидуальных озарений цельную философию истории… – К чему я? – спросил себя Валерка, передразнив кокетливый вопрос Шанского, который тот обычно задавал себе, запутывая дискуссию, Валерка тоже боялся, по-видимому, что не справится с расхлябанностью собственных мыслей и окончательно провалится в сивый бред, однако сразу же, и озорно, как только он умел, глянул на Соснина: сам-то он, пытаясь объясниться, возможно и сплоховал, но зато готов похвастать чужими, выгодно присвоенными премудростями – пассажи из четвёртой главы «Ады» были и впрямь блестящими… но почему пространство – это толчея в ушах, не в глазах? С фанатичной угрюмостью Валерка помечтал о том, чтобы парадоксы времени врывались в зарождавшийся текст, наполняли энергией, деформировали исходные композиционные схемы. И заряжали тайным знанием о том, что будет. Хотя, заряд этот и так издавна ощущался, мечтай, не мечтай. Гениальное произведение – сколок, – объявлял Валерка, – в нём чудесно отражается весь мир искусства, все-все не только старинные, но и перспективные открытия – приёмы, формы. У Моцарта обнаружены джазовые синкопы, ещё бы, ещё бы, художника, пусть и кумира гармоничной эпохи, болезненно облучает будущее, возбуждает и тревожит задолго до того… Соснин вспоминал: «всё, что до меня – моё! И всё, что после меня – тоже моё!»… отрешённо слушал; от бомбардировки зажигательными идеями, как часто случалось с ним, успокаивался. – Чур меня, чур меня! – откуда-то доносился Валеркин голос, – речь не о фантастах недоброй памяти, которые, очертя головы, запускают героических бедолаг шастать по грядущему на фотонных ракетах, по мне бы, – вскинул окантованный солнцем профиль с носом-секирой, – по мне бы запустить «я» в цикличное время, охватывающее разные времена…
Запускали, сколько раз запускали…
Соснин оглянулся на башню Думы – стрелка сползла вправо на пять минут – вспомнил опять, что об этом Валерка уже писал, причём строго вполне и стройно – «Время как белое пятно…» напечатали «Часы».
в отделе художественной литературы Дома Книги
Грязные протёртые выщербленные ступени… Бедный Сюзор!
На лестнице толкались мордастые спекулянты с пикулями в портфелях, по стенке жалась немая чёрная очередь, которая на верхней площадке безнадёжно упиралась в толпу – давали «Петербургские повести», изданные в Бурятии на серо-жёлтой, с занозами-щепочками, бумаге.
Протиснулись к прилавку поэзии.
Облокотясь на массивную дубовую столешницу, протянувшуюся между двумя витринками с тусклыми исцарапанными наклонными стёклами, где были достойно похоронены Прокофьев и Наровчатов, огромный, улыбчиво-красногубый Лёня Соколов громко, во весь голос, как если бы дразнил осаждавших кассу книголюбов, хвастал покупкой в высокогорном киргизском кишлаке однотомника Гессе, в доказательство вытащил из сумки, с торжествующей небрежностью полистал на глазах завистников «Степного волка»; потом похвалил самиздатовского Кривулина, спросил у Бухтина, когда тот, наконец, переведёт Музиля.
В турбулентности на подступах к заветной кассе потел Акмен; увидел Валерку с Сосниным, оптимистично поднял в приветствии руку с зажатыми в кулаке деньгами.
– Где тут Пикуля, Хейли и ещё того… ну, немца…
– Он что, брат того…?
– Брат, брат.
– На сколько килограммов талон?
– Пятнадцать.
– Пикуля и Хейли только за двадцать пять.
– А Гоголя?
– Гоголь в открытой продаже, – рука вытянулась к массовой потасовке, из последних сил яростно проталкивался к кассе Акмен.
К другой кассе вился хвост везунчиков, у них был шанс отоварить, то бишь поменять на ходкие сочинения в твёрдых, пропахших клеем переплётах, талоны за сданную макулатуру; на пятнадцать килограмм меняли Генриха Манна, «Верноподданного»; с отталкивающим – под чёрным готическим шрифтом – типом на жёлтой обложке.
Валерка полюбезничал с Люсей Левиной, ввязался в болтовню книжников, а Люся, посмеиваясь, парируя шутливые колкости, поманила Соснина свежей книжечкой Кушнера; тихо вышел из библиографического отдела Шиндин, одобрительно кивнул, удостоверил качественность стихов.
Шиндин прислушался к болтовне, с тихим ужасом в глазах и усталой улыбкой на устах посмотрел в потолок, закачал головою, зашептал. – КГБ, КГБ, КГБ…
Из толпы выбирался распаренный счастливый Акмен с добытым чеком, достались-таки «Петербургские повести».
Опасливо оглянувшись по сторонам, Люся вытащила из-под поэтического прилавка и протянула вдобавок к книжечке Кушнера сжатые канцелярской скрепкой листочки папиросной бумаги с тусклой машинописью «Римских элегий», Соснин торопливо сложил, сунул во внутренний карман пиджака.
текст как город?
(с Носом – по Невскому)
В дверях едва не столкнулись с Сашкой Товбиным; спинами почуяли, тот обернулся, посмотрел вслед. Увидели перебегавшего Невский Дина.
Валерка вызвался проводить.
Снова зашагали по Невскому, только в обратную сторону. Льдины в канале укрупнились, их стало больше.
Шарф по ветру, глаза взблескивают… одна рука в кармане, другая взрезает небо… Нос навеселе.
Любопытно! – доходило до Соснина, – сам он, мучительно и своевольно перекомпановывал в воображении дома и пространства; Шанский, пускаясь во все тяжкие, ошарашивал интерпретациями; оригинальными, завиральными, какими угодно, но – интерпретациями того, что бытовало в натуре, в слитности слов, камня, воды и воздуха, того, что жило в тех, кто слушал лекции Шанского, как образ Санкт-Петербурга. А Валерка ничего из реально существовавшего не перекомпановывал, не интерпретировал. Отталкивался от того, что знал, любил, и сейчас, здесь, пируя ли, вышагивая по Невскому, упивался необозримо-невиданным размахом и внезапной красотой замышляемого; свято веря, что покончит с упадком жанра, творил фантомную прозу, чтобы когда-нибудь потом, одолев соблазны интеллектуальной и эмоциональной праздности, дисциплинировать ум, строгим языком построить романические структуры будущего… как водилось, контекст опережал текст. И до чего последователен, неутомим был Валерка в своих потугах объять необъятное, соединить несоединимое, срастить все филологические методы и подходы! Он, истинный наследник формалистов, относился, конечно, к тексту как к замкнутому самодостаточному феномену, в самой форме своей зашифровавшему все свои тайны, и он же верил в художественное всесилие внетекстовых связей, уникальности авторской личности, биографии. Давняя страсть к выявлению-обозначению границ обернулась поисковым бытованием в бескрайней сплошной динамической пограничности – между текстом, который он непрестанно творил в воображении, усложнял попутными домыслами, апокрифами… и текстом, который, опять-таки в воображении, тут же принимался исследовать, случалось, что и безжалостно критиковать; собственно, он сам творил слитную пограничность филологического романа.
– Выкинь из головы всё, что я тебе наговорил, – опустил воротник куртки, надвинул на лоб плоскую вельветовую кепчонку, отчего ещё сильней выдался вперёд нос, – к вечеру моя бормотуха перебродит в скучненький инерционный доклад.
После взлёта – самоуничижение?
Молча пересекли под землёй Садовую.
На углу Малой Садовой Валерка закричал, замахал. – Володя, Володя!
И Володя Эрлин, который входил в кулинарию «Елисеевского» за ежедневной чашечкой двойного кофе, оглянулся, придержал дверь, тоже махнул, узнав.
– Как ни крути, соревнование с Богом ли, Библией, восхищает, конечно, бесстрашием, но никакой тотальный текст всё не схватит, хотя попытка всё схватить за один летний день в одном городе вылилась в фантастический романный опыт, – давал-таки задний ход? – Валерка снова завертел головой, описал круговым взмахом руки небо, фасады, прохожих, зазеленевший на зло холодам Екатерининский садик. – И, само собой, широту зрения Создателя не превзойти, – Валерка, только что взахлёб рассказывавший о всеохватном опыте Джойса, повторно взмахнул рукой, – ну как можно всё это затолкать в жанр? Или даже в полижанровую бесформенность! Смотри, в подворотне фарца кучкуется, дети скачут, и куст шевелится там вдали, под Аничковым дворцом, смотри, смотри наползает и тает тень, и – блестит анодированная жестянка, Высоцкий хрипит в машине, за окном – пустые бутылки, и автобусы, троллейбусы – мимо, люди снуют, толкни дверь – спят, жуют, целуются, умирают, и всё – рядом, всё – сразу, одномоментно, таких точек-моментов – тьма! Постигаем ли мы словом динамичный гибрид невообразимой сложности? А свёртывание в миф истории? А зов будущего? Куда, зачем несутся птица-тройка ли, электричка? Не дают и не дадут ответа, – заразительно засмеялся.
У Соснина запрыгали в глазах чёрные точечки.