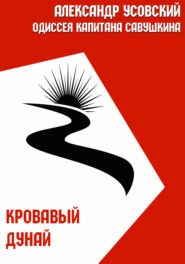По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Contra spem spero
Жанр
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Левченко пожал плечами.
– Может, он его отправил до боя…
Генерал саркастически добавил:
– И шло оно до Москвы два дня и две ночи, потому как вёз его лихой посыльный на игреневом коне…. Так, что ли?
– Всяко бывает…
– Всяко – да не всяко! Мне вон Загородний доложил – его специалисты все проверили, отправлено это сообщение за одиннадцать с половиной минут до получения. Двадцать второго января в семь часов двадцать шесть минут утра по Москве. Когда тело предполагаемого отправителя уже сутки, как в морге в Мосуле загорало. Так что – жив наш Одиссей! А вот его напарник – девяносто девять процентов, что убит. – И тут же, сделавшись серьезным, добавил: – Вот только то, что в течении девятнадцати дней наш парень на связь не выходит – меня серьезно настораживает.… А то, что люди Хаджефа обшарили весь иракский Курдистан и ни одного следочка нашего странника не нашли – настораживает ещё больше!
– То есть вы полагаете, что доставленный в Мосул труп – это тело Туфана Сарыгюля? – Левченко вопросительно посмотрел на своего шефа.
– Получается так. Надо бы, раз уж такая беда, Оксану его известить…. Гончаров передавал, что ничего хорошего она от этого задания не ждала, была уверена, что добром эта поездка не кончится. Вот она добром и не кончилась…. Левченко, простой вопрос на формальную логику – если наш парень жив, но почти три недели о нем, ни слуху, ни духу – что сие значит?
Левченко вздохнул.
– Ничего хорошего. Либо он тяжело ранен и лежит где-то, обездвиженный… либо находится в руках людей, ни разу не заинтересованных в том, чтобы наш парень смог подать о себе весточку.
Генерал кивнул.
– Или то и другое. Что, скорее всего…. В любом случае, мы ему сейчас ничем и никак помочь не сможем – до тех пор, пока он сам не объявится, не важно, каким образом. Согласен?
– Согласен.
– Как он с нами может связаться?
– Телефоны наши оперативные во всех трех сопредельных государствах – в Эрбиле, Диарбакыре и Алеппо – он знает. Адреса электронной почты – также. Достаточно ему оказаться хотя бы на минуту-другую у таксофона или у компьютера с доступом в интернет – как мы получим от него сообщение. Ну, а дальше – исходя их обстановки…
Генерал кивнул, затем встал, прошёлся по кабинету, закурил – и, выдохнув первый клубок сизого ароматного дыма, сказал задумчиво:
– Знать бы ещё, в чьих он руках нынче находится – всё было бы легче…
* * *
Неизвестность – самая страшная пытка; три недели глухой, безнадежной, иссушающей нервы, холодной неизвестности – куда хуже любых вырываний ногтей и «испанских сапожков» – он это прочувствовал на себе. Отшельники, ушедшие в пустыню от соблазнов окружающего мира, дабы постичь истину – были чертовски крепкими духом дядьками…
Его привезли на рассвете в какой-то заброшенный, по виду – давно оставленный людьми – кишлак (или аул, как у них такие заимки в пустыне называются?). Несколько саманных мазанок, окруженных глухим глиняным забором, десяток чахлых олив, сбившихся в испуганную стайку у ветхого полуразрушенного колодца, арык, в котором уже давно – ни капли воды, и лишь влажная земля на самом дне, бурый от ржавчины остов грузовика на въезде, пыль, тишина…. Правда, люди, как оказалось, в этой обители тоски жили – двое диковатых, заросших жуткими патлами туземцев, а с ними – несколько овец; интересно, чем они кормят их в этой пустыне?
Часовой на пару с водителем сгрузили его у стены, стащили палатки, несколько ящиков, затем минут двадцать что-то монотонно и нудно втолковывали туземцам – а затем, загрузившись в машину, убыли на восток. Одиссей остался один на один с парочкой невнятных существ – неторопливо перетащивших в одну из хибар сначала всё сгруженное имущество, а затем, уже к исходу дня – и его, к тому времени уже изрядно проголодавшегося и дико страдающего как от жажды, так и от… как бы это поделикатнее сказать… в общем, её полной противоположности.
Когда Одиссей увидел своё будущее жилище – ему стало чуток не по себе; нет, в плане санитарии и гигиены всё было в норме, помещение было прибрано, у стены стояли две заправленные белоснежным бельём кровати, глиняный пол сиял чистотой. Запах…. Даже не запах – дух у этой комнаты был какой-то скверный, нехороший. Оглядевшись и тщательно осмотрев обстановку, Одиссей понял, в чём дело – комната, в которой ему надлежало провести неизвестно, сколько времени, была местом, где умирали. Здесь явно держали раненых – многих и многих: на полках вдоль стены стояли разные склянки с лекарствами – сотни склянок, полупустых, начатых, полных под пробку, груды упаковок с одноразовыми шприцами теснились на стеллаже, стойка для капельницы, сиротливо притулившаяся в углу, неистребимый запах камфары – всё вместе говорило о том, что эта комната служила в качестве больничной палаты; и, по ходу, далеко не все её временные обитатели выходили из неё на своих ногах…
Аборигены поставили носилки с Одиссеем посреди комнаты и попытались было переложить его на одну из кроватей – вот ещё! Одиссей, хоть и с трудом, но встал, проковылял несколько шагов (каждый шаг отдавался в плече резкой, острой болью, но в принципе – было терпимо) и прилёг на той кровати, что размещалась у окошка – махонького, в две ладони, но все же это было окно в мир.
Один из автохтонов, обращаясь к Одиссею, произнёс:
– Бу салонда, яшаякаксыныз. Без сизы беслечек ве алмак бакымы[4 - Здесь ты будешь жить. Мы будем тебя кормить и ухаживать (турецк.)].
Хм, а ведь язык этот, по ходу, для автохтона неродной! Ишь, как старательно фразы выговаривает…. Сарбоз, из машины – тоже ему медленно и внятно втолковывал, так говорят людям, для которых твой язык – чужой. Ладно, возьмём на заметку – а для начала попробуем понять, что этот туземец только что сказал.
Через полтора часа мучительных переговоров Одиссей выяснил, что двое жителей заброшенного кишлака – хоть и йезиды, но не курды, а арабы-шаммары. И что он в данный момент – единственный их гость; хотя, если он правильно понял их объяснения «на пальцах», обычно в кишлаке залечивают раны сразу несколько человек – для которых из Курдистана приезжает врач. «Доктор» – слава Богу, и по-турецки доктор…
* * *
Последовавшие за заселением в медсанбат, как назвал для себя этот кишлак Одиссей, три недели были удручающе монотонны. Ранний, с рассветом, подъём, завтрак, перевязка, пару уколов – автохтоны, хоть и выглядели дикарями из каменного века, со шприцами и ампулами обращались весьма профессионально – какие-то таблетки и настойки, правда, в весьма щадящих количествах. После медицинских процедур – неспешный и вдумчивый полуторачасовой разговор – если, конечно, эти попытки установления общего языка можно называть разговором – с Мохаммедом (второй, Исмаил, был, что называется, «младшим», и на его долю приходилась в основном работа по хозяйству), несколько новых, старательно заученных, турецких слов. Затем – сон, после него – обед, чтение Корана, изданного в Бейруте в 1982 году, хоть и по-русски, но отчего-то в соответствии с дореволюционной орфографией, с ятями и ижицами (это была единственная книга на русском, найденная им в шкафчике с литературой «для выздоравливающих» – всё остальное было на арабском и турецком), затем очень лёгкий ужин – обычно большая кружка чего-то кисломолочного, похожего на армянский мацони, и лепёшка, щедро посыпанная кунжутным семенем – и отбой, вместе с заходом солнца. Тоска…. Тоска и неизвестность – от которых иногда хотелось выть, как волку, особенно по ночам…
Установленный хозяевами распорядок вначале дико бесил Одиссея – причём не столько своей тупой однообразностью, сколько абсолютным отсутствием хоть какого-то намёка на информацию из внешнего мира – но затем, дней через десять, он смирился с этим. Всё равно изменить что-либо было не в его силах; к тому же в таком прозябании всё же был один, пусть небольшой, но плюс – благодаря неторопливому житью-бытью его раненое плечо довольно быстро заживало, и уже к концу второй недели он мог, хоть и не без труда, действовать правой рукой – что позволяло некоторые особо трудные фразы записывать и затем заучивать наизусть. Пища, опять же, хоть и была удручающе однообразной – просяная каша (хозяева называли её «бургуль») с финиками, что-то типа ряженки или простокваши из овечьего молока (по-здешнему – лябан) и кофе на завтрак, суп с фасолью и пшеничная каша с тушёнкой на обед – в принципе, требованиям к калорийности удовлетворяла вполне, хотя и не приносила никакого удовольствия. Да и о каком удовольствии от еды (и вообще – от жизни) можно говорить – когда вокруг, докуда хватает глаз – безжизненная холодная пустыня, а рядом всегда, утром, днём и вечером – две пары чужих глаз, следящих за тобой каждую секунду? Впрочем, иногда туземцы всё же радовали – например, каждый четверг они резали овцу и, разделав её, запекали на огне – что позволяло на денёк забыть об опостылевшей турецкой тушёнке якобы из говядины (на самом деле – чёрт его знает, какое это было мясо, мелко протёртое и утратившие даже намёк на вкус и аромат).
По-прежнему угнетала неизвестность и отсутствие какой-либо информации из внешнего мира; сторожа от любых вопросов типа «вы вообще кто?» деликатно уклонялись, никаких средств коммуникации с остальным человечеством (про радио или телевизор говорить не приходилось, не было даже такой малости, как шум проезжающих машин – за отсутствием в радиусе как минимум полутора десятков миль от медсанбата каких-либо дорог) не имелось в принципе, и единственная информация, которая была все эти три недели ему доступна – это календарь, на котором автохтоны старательно отмечали каждую пятницу – дабы не осквернить себя работой в этот день.
Песок, тишина, однообразная, до смерти надоевшая, еда, до такой же степени надоевшие лица сторожей, безвременье и могильный покой…. Одиссей уже начал привыкать к жизни отшельника – когда в один прекрасный день всё резко изменилось.
* * *
Это произошло примерно через час после обеда – когда Одиссей, по уже выработавшейся привычке, присел с бейрутским Кораном на скамейку во дворе. Читать эту мутную, с трудно воспринимаемой орфографией, книгу дико не хотелось – но, во-первых, чтение Корана делало его в глазах сторожей практически своим, а во-вторых – а чем ему ещё было заниматься?
Итак, продолжим наши занятия богословием – если эту профанацию можно так назвать…. Сура шестьдесят четвертая, «Ат-Табагун». «Славит Аллаха то, что на небесах, и то, что на земле. Ему принадлежит власть и надлежит хвала. Он способен на всякую вещь. Он – Тот, кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие. Аллах видит то, что вы совершаете». Бр-р-р, муть какая…
СТОП! МОТОР!
Одиссей захлопнул Коран, встал, положил его на скамейку и, не торопясь и старательно вслушиваясь, двинулся к воротам. Так и есть! Звук работающего двигателя ему не почудился – более того, он приближался!
Во двор вышли туземцы – что-то возбуждённо выкрикивая друг другу. Ясно, сегодня они явно никого не ждали…. Ба, да они при оружии! Под меховой жилеткой Мухаммеда опытный взгляд Одиссея обнаружил кобуру с чем-то вроде АПС, а Исмаил старательно прятал в складках своей галабии пистолет-пулемет «хеклер-кох» – тот, что в Неметчине носит кличку «курц» за свои сверхмалые размеры. Любопытно, весьма любопытно…
Впрочем, терзаться неведением им долго не пришлось – минут через пять у ворот остановился автомобиль, хлопнули две дверцы – и в калитку постучались, причём постучались уверенно, по-хозяйски. Исмаил тут же бросился открывать, Мухаммед остался стоять на месте – едва заметным движением сдвинув кобуру поближе к распаху жилетки. Одиссей с настороженным любопытством смотрел на ворота – интересно, кого же это принесла нелёгкая?
Нелёгкая принесла, судя по почтительному поклону Исмаила, хозяев здешней заимки – во двор через настежь распахнутую калитку вошли двое мужчин, одетых пусть неброско и практично, но явно недёшево. Один из вошедших был, на первый взгляд, без оружия, на плече у второго висел карабин М-4, «бюджетный» вариант американской штурмовой винтовки М-16 – что несколько удивило Одиссея: карабинчик так себе, капризный и требовательный к уходу, «хеклер-кох», что у Исмаила – куда как надежнее; впрочем, в качестве бортового оружия – «американец» был намного эффективнее любого пистолета или пистолета-пулемета, скорее всего, именно за это его и выбрали…. Все эти мысли промелькнули в голове у Одиссея буквально за секунду – пока визитёры неторопливо входили во двор их «штаб-квартиры».
Мохаммед тут же переломился в поклоне, Одиссей, не зная, как себя вести, осторожно рассматривал вошедших мужчин. Однако, хлопцы, судя по всему, жизнью тёртые…. Иссеченные пустынным ветром, дублёные лица, привычные к оружию крепкие руки, поджарые, сухопарые фигуры…. Да, это не разожравшиеся на американских дармовых харчах курды из Эрбиля или Мосула; эти – не бараны для заклания, куда больше им подходит – волки пустыни. С такими надо держать ухо востро…
Первый из вошедших, тот, у которого не было оружия – посмотрел на Одиссея и, обратившись к Мухаммеду, что-то спросил. Тот, торопясь и запинаясь, начал что-то объяснять – но вошедший мужчина, махнув рукой, отвернулся от старшего сторожа и, повернувшись к Одиссею, спросил:
– Как ваша рана?
ОГО! По-русски! Одиссей прижал руку к сердцу и, чуть поклонившись, ответил:
– Благодарю вас, уже практически зажила.
Старший из вошедших (а он явно был старший, тот, второй, с карабином – был или охранником, или водителем, или тем и другим вместе – но явно подчинённым) удовлетворённо кивнул и, оглядев двор, спросил:
– Мы можем поговорить?
Одиссей кивнул:
– Да, конечно.
– Тогда пройдемте в дом. Или, пожалуй, лучше на террасу – там нам будет уютней. – И, обернувшись к Мухаммеду, что-то бросил ему вполголоса по-арабски. Старший сторож, быстро поклонившись, скорым шагом направился к террасе, на которой они обычно пили чай. Собеседник Одиссея движением руки предложил ему следовать туда же.
– Может, он его отправил до боя…
Генерал саркастически добавил:
– И шло оно до Москвы два дня и две ночи, потому как вёз его лихой посыльный на игреневом коне…. Так, что ли?
– Всяко бывает…
– Всяко – да не всяко! Мне вон Загородний доложил – его специалисты все проверили, отправлено это сообщение за одиннадцать с половиной минут до получения. Двадцать второго января в семь часов двадцать шесть минут утра по Москве. Когда тело предполагаемого отправителя уже сутки, как в морге в Мосуле загорало. Так что – жив наш Одиссей! А вот его напарник – девяносто девять процентов, что убит. – И тут же, сделавшись серьезным, добавил: – Вот только то, что в течении девятнадцати дней наш парень на связь не выходит – меня серьезно настораживает.… А то, что люди Хаджефа обшарили весь иракский Курдистан и ни одного следочка нашего странника не нашли – настораживает ещё больше!
– То есть вы полагаете, что доставленный в Мосул труп – это тело Туфана Сарыгюля? – Левченко вопросительно посмотрел на своего шефа.
– Получается так. Надо бы, раз уж такая беда, Оксану его известить…. Гончаров передавал, что ничего хорошего она от этого задания не ждала, была уверена, что добром эта поездка не кончится. Вот она добром и не кончилась…. Левченко, простой вопрос на формальную логику – если наш парень жив, но почти три недели о нем, ни слуху, ни духу – что сие значит?
Левченко вздохнул.
– Ничего хорошего. Либо он тяжело ранен и лежит где-то, обездвиженный… либо находится в руках людей, ни разу не заинтересованных в том, чтобы наш парень смог подать о себе весточку.
Генерал кивнул.
– Или то и другое. Что, скорее всего…. В любом случае, мы ему сейчас ничем и никак помочь не сможем – до тех пор, пока он сам не объявится, не важно, каким образом. Согласен?
– Согласен.
– Как он с нами может связаться?
– Телефоны наши оперативные во всех трех сопредельных государствах – в Эрбиле, Диарбакыре и Алеппо – он знает. Адреса электронной почты – также. Достаточно ему оказаться хотя бы на минуту-другую у таксофона или у компьютера с доступом в интернет – как мы получим от него сообщение. Ну, а дальше – исходя их обстановки…
Генерал кивнул, затем встал, прошёлся по кабинету, закурил – и, выдохнув первый клубок сизого ароматного дыма, сказал задумчиво:
– Знать бы ещё, в чьих он руках нынче находится – всё было бы легче…
* * *
Неизвестность – самая страшная пытка; три недели глухой, безнадежной, иссушающей нервы, холодной неизвестности – куда хуже любых вырываний ногтей и «испанских сапожков» – он это прочувствовал на себе. Отшельники, ушедшие в пустыню от соблазнов окружающего мира, дабы постичь истину – были чертовски крепкими духом дядьками…
Его привезли на рассвете в какой-то заброшенный, по виду – давно оставленный людьми – кишлак (или аул, как у них такие заимки в пустыне называются?). Несколько саманных мазанок, окруженных глухим глиняным забором, десяток чахлых олив, сбившихся в испуганную стайку у ветхого полуразрушенного колодца, арык, в котором уже давно – ни капли воды, и лишь влажная земля на самом дне, бурый от ржавчины остов грузовика на въезде, пыль, тишина…. Правда, люди, как оказалось, в этой обители тоски жили – двое диковатых, заросших жуткими патлами туземцев, а с ними – несколько овец; интересно, чем они кормят их в этой пустыне?
Часовой на пару с водителем сгрузили его у стены, стащили палатки, несколько ящиков, затем минут двадцать что-то монотонно и нудно втолковывали туземцам – а затем, загрузившись в машину, убыли на восток. Одиссей остался один на один с парочкой невнятных существ – неторопливо перетащивших в одну из хибар сначала всё сгруженное имущество, а затем, уже к исходу дня – и его, к тому времени уже изрядно проголодавшегося и дико страдающего как от жажды, так и от… как бы это поделикатнее сказать… в общем, её полной противоположности.
Когда Одиссей увидел своё будущее жилище – ему стало чуток не по себе; нет, в плане санитарии и гигиены всё было в норме, помещение было прибрано, у стены стояли две заправленные белоснежным бельём кровати, глиняный пол сиял чистотой. Запах…. Даже не запах – дух у этой комнаты был какой-то скверный, нехороший. Оглядевшись и тщательно осмотрев обстановку, Одиссей понял, в чём дело – комната, в которой ему надлежало провести неизвестно, сколько времени, была местом, где умирали. Здесь явно держали раненых – многих и многих: на полках вдоль стены стояли разные склянки с лекарствами – сотни склянок, полупустых, начатых, полных под пробку, груды упаковок с одноразовыми шприцами теснились на стеллаже, стойка для капельницы, сиротливо притулившаяся в углу, неистребимый запах камфары – всё вместе говорило о том, что эта комната служила в качестве больничной палаты; и, по ходу, далеко не все её временные обитатели выходили из неё на своих ногах…
Аборигены поставили носилки с Одиссеем посреди комнаты и попытались было переложить его на одну из кроватей – вот ещё! Одиссей, хоть и с трудом, но встал, проковылял несколько шагов (каждый шаг отдавался в плече резкой, острой болью, но в принципе – было терпимо) и прилёг на той кровати, что размещалась у окошка – махонького, в две ладони, но все же это было окно в мир.
Один из автохтонов, обращаясь к Одиссею, произнёс:
– Бу салонда, яшаякаксыныз. Без сизы беслечек ве алмак бакымы[4 - Здесь ты будешь жить. Мы будем тебя кормить и ухаживать (турецк.)].
Хм, а ведь язык этот, по ходу, для автохтона неродной! Ишь, как старательно фразы выговаривает…. Сарбоз, из машины – тоже ему медленно и внятно втолковывал, так говорят людям, для которых твой язык – чужой. Ладно, возьмём на заметку – а для начала попробуем понять, что этот туземец только что сказал.
Через полтора часа мучительных переговоров Одиссей выяснил, что двое жителей заброшенного кишлака – хоть и йезиды, но не курды, а арабы-шаммары. И что он в данный момент – единственный их гость; хотя, если он правильно понял их объяснения «на пальцах», обычно в кишлаке залечивают раны сразу несколько человек – для которых из Курдистана приезжает врач. «Доктор» – слава Богу, и по-турецки доктор…
* * *
Последовавшие за заселением в медсанбат, как назвал для себя этот кишлак Одиссей, три недели были удручающе монотонны. Ранний, с рассветом, подъём, завтрак, перевязка, пару уколов – автохтоны, хоть и выглядели дикарями из каменного века, со шприцами и ампулами обращались весьма профессионально – какие-то таблетки и настойки, правда, в весьма щадящих количествах. После медицинских процедур – неспешный и вдумчивый полуторачасовой разговор – если, конечно, эти попытки установления общего языка можно называть разговором – с Мохаммедом (второй, Исмаил, был, что называется, «младшим», и на его долю приходилась в основном работа по хозяйству), несколько новых, старательно заученных, турецких слов. Затем – сон, после него – обед, чтение Корана, изданного в Бейруте в 1982 году, хоть и по-русски, но отчего-то в соответствии с дореволюционной орфографией, с ятями и ижицами (это была единственная книга на русском, найденная им в шкафчике с литературой «для выздоравливающих» – всё остальное было на арабском и турецком), затем очень лёгкий ужин – обычно большая кружка чего-то кисломолочного, похожего на армянский мацони, и лепёшка, щедро посыпанная кунжутным семенем – и отбой, вместе с заходом солнца. Тоска…. Тоска и неизвестность – от которых иногда хотелось выть, как волку, особенно по ночам…
Установленный хозяевами распорядок вначале дико бесил Одиссея – причём не столько своей тупой однообразностью, сколько абсолютным отсутствием хоть какого-то намёка на информацию из внешнего мира – но затем, дней через десять, он смирился с этим. Всё равно изменить что-либо было не в его силах; к тому же в таком прозябании всё же был один, пусть небольшой, но плюс – благодаря неторопливому житью-бытью его раненое плечо довольно быстро заживало, и уже к концу второй недели он мог, хоть и не без труда, действовать правой рукой – что позволяло некоторые особо трудные фразы записывать и затем заучивать наизусть. Пища, опять же, хоть и была удручающе однообразной – просяная каша (хозяева называли её «бургуль») с финиками, что-то типа ряженки или простокваши из овечьего молока (по-здешнему – лябан) и кофе на завтрак, суп с фасолью и пшеничная каша с тушёнкой на обед – в принципе, требованиям к калорийности удовлетворяла вполне, хотя и не приносила никакого удовольствия. Да и о каком удовольствии от еды (и вообще – от жизни) можно говорить – когда вокруг, докуда хватает глаз – безжизненная холодная пустыня, а рядом всегда, утром, днём и вечером – две пары чужих глаз, следящих за тобой каждую секунду? Впрочем, иногда туземцы всё же радовали – например, каждый четверг они резали овцу и, разделав её, запекали на огне – что позволяло на денёк забыть об опостылевшей турецкой тушёнке якобы из говядины (на самом деле – чёрт его знает, какое это было мясо, мелко протёртое и утратившие даже намёк на вкус и аромат).
По-прежнему угнетала неизвестность и отсутствие какой-либо информации из внешнего мира; сторожа от любых вопросов типа «вы вообще кто?» деликатно уклонялись, никаких средств коммуникации с остальным человечеством (про радио или телевизор говорить не приходилось, не было даже такой малости, как шум проезжающих машин – за отсутствием в радиусе как минимум полутора десятков миль от медсанбата каких-либо дорог) не имелось в принципе, и единственная информация, которая была все эти три недели ему доступна – это календарь, на котором автохтоны старательно отмечали каждую пятницу – дабы не осквернить себя работой в этот день.
Песок, тишина, однообразная, до смерти надоевшая, еда, до такой же степени надоевшие лица сторожей, безвременье и могильный покой…. Одиссей уже начал привыкать к жизни отшельника – когда в один прекрасный день всё резко изменилось.
* * *
Это произошло примерно через час после обеда – когда Одиссей, по уже выработавшейся привычке, присел с бейрутским Кораном на скамейку во дворе. Читать эту мутную, с трудно воспринимаемой орфографией, книгу дико не хотелось – но, во-первых, чтение Корана делало его в глазах сторожей практически своим, а во-вторых – а чем ему ещё было заниматься?
Итак, продолжим наши занятия богословием – если эту профанацию можно так назвать…. Сура шестьдесят четвертая, «Ат-Табагун». «Славит Аллаха то, что на небесах, и то, что на земле. Ему принадлежит власть и надлежит хвала. Он способен на всякую вещь. Он – Тот, кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие. Аллах видит то, что вы совершаете». Бр-р-р, муть какая…
СТОП! МОТОР!
Одиссей захлопнул Коран, встал, положил его на скамейку и, не торопясь и старательно вслушиваясь, двинулся к воротам. Так и есть! Звук работающего двигателя ему не почудился – более того, он приближался!
Во двор вышли туземцы – что-то возбуждённо выкрикивая друг другу. Ясно, сегодня они явно никого не ждали…. Ба, да они при оружии! Под меховой жилеткой Мухаммеда опытный взгляд Одиссея обнаружил кобуру с чем-то вроде АПС, а Исмаил старательно прятал в складках своей галабии пистолет-пулемет «хеклер-кох» – тот, что в Неметчине носит кличку «курц» за свои сверхмалые размеры. Любопытно, весьма любопытно…
Впрочем, терзаться неведением им долго не пришлось – минут через пять у ворот остановился автомобиль, хлопнули две дверцы – и в калитку постучались, причём постучались уверенно, по-хозяйски. Исмаил тут же бросился открывать, Мухаммед остался стоять на месте – едва заметным движением сдвинув кобуру поближе к распаху жилетки. Одиссей с настороженным любопытством смотрел на ворота – интересно, кого же это принесла нелёгкая?
Нелёгкая принесла, судя по почтительному поклону Исмаила, хозяев здешней заимки – во двор через настежь распахнутую калитку вошли двое мужчин, одетых пусть неброско и практично, но явно недёшево. Один из вошедших был, на первый взгляд, без оружия, на плече у второго висел карабин М-4, «бюджетный» вариант американской штурмовой винтовки М-16 – что несколько удивило Одиссея: карабинчик так себе, капризный и требовательный к уходу, «хеклер-кох», что у Исмаила – куда как надежнее; впрочем, в качестве бортового оружия – «американец» был намного эффективнее любого пистолета или пистолета-пулемета, скорее всего, именно за это его и выбрали…. Все эти мысли промелькнули в голове у Одиссея буквально за секунду – пока визитёры неторопливо входили во двор их «штаб-квартиры».
Мохаммед тут же переломился в поклоне, Одиссей, не зная, как себя вести, осторожно рассматривал вошедших мужчин. Однако, хлопцы, судя по всему, жизнью тёртые…. Иссеченные пустынным ветром, дублёные лица, привычные к оружию крепкие руки, поджарые, сухопарые фигуры…. Да, это не разожравшиеся на американских дармовых харчах курды из Эрбиля или Мосула; эти – не бараны для заклания, куда больше им подходит – волки пустыни. С такими надо держать ухо востро…
Первый из вошедших, тот, у которого не было оружия – посмотрел на Одиссея и, обратившись к Мухаммеду, что-то спросил. Тот, торопясь и запинаясь, начал что-то объяснять – но вошедший мужчина, махнув рукой, отвернулся от старшего сторожа и, повернувшись к Одиссею, спросил:
– Как ваша рана?
ОГО! По-русски! Одиссей прижал руку к сердцу и, чуть поклонившись, ответил:
– Благодарю вас, уже практически зажила.
Старший из вошедших (а он явно был старший, тот, второй, с карабином – был или охранником, или водителем, или тем и другим вместе – но явно подчинённым) удовлетворённо кивнул и, оглядев двор, спросил:
– Мы можем поговорить?
Одиссей кивнул:
– Да, конечно.
– Тогда пройдемте в дом. Или, пожалуй, лучше на террасу – там нам будет уютней. – И, обернувшись к Мухаммеду, что-то бросил ему вполголоса по-арабски. Старший сторож, быстро поклонившись, скорым шагом направился к террасе, на которой они обычно пили чай. Собеседник Одиссея движением руки предложил ему следовать туда же.