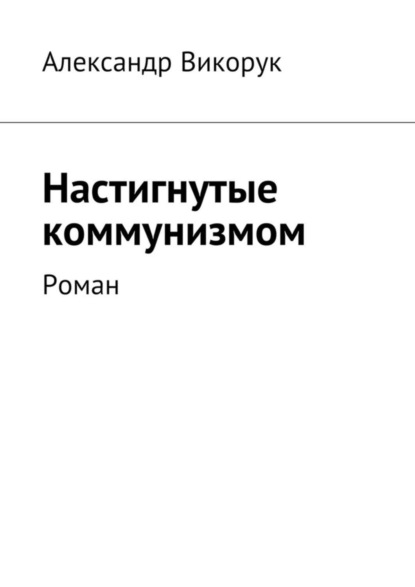По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Настигнутые коммунизмом. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Елисей прекрасно понимал, еще бы ему не понять. Он хорошо помнил, как таскали его по начальству, мытарили комсомольские юноши, а потом выставили со второго курса без всякой надежды, без будущего, с клеймом прокаженного. И только он один знал, кто такой Валерий Есипов и чем ему обязан.
– Я сейчас спать не могу. Мне страшно, ужас!
У него в горле забулькало, зашипело, он всхлипнул. Лицо дрогнуло. Он закрыл глаза рукой и затих.
Подошел официант, стал расставлять закуски. Есипов не двигался. Когда официант отошел, Валерка открыл лицо, схватил вилку и, низко наклонив голову, стал есть, сопя и причмокивая. Елисей тоже принялся жевать, мучимый раздражением от того, что Есипов всколыхнул всю давнюю муть, ненужную, казалось, позабытую, сейчас даже смешную.
Никогда он ни о чем не жалел. Ничего иного ему не требовалось. Единственное, что хотелось понять, зачем о н и это делали, для чего. Во имя чего суетились, предавали, продавали?
О том, что Есипов – главный герой его злоключений, он лишь догадывался. Никаких явных фактов у него не было, и не могло быть. Просто одно за другим копилось, тяготило, как гирьки на весах, пока не сложилось все и не озарила убежденность. Каждая мелочь сама по себе почти ничего не значила. Хотя один эпизод был весьма отвратителен.
Однажды Валерка затянул его посмотреть матч на первенство вузов по баскетболу. Не помнилось уже, с кем играли. Игра шла обычно: стукота мяча, крики немногочисленных болельщиков, потные, разгоряченные игроки. Потом гости вырвались вперед, и разрыв стал расти. Почти все очки набирал длинный мосластый парень с сонным выражением на лице, как будто он только что оторвал от подушки всклокоченную с рыжиной голову – открыл глаза и очень удивился свету. Вид-то сонный, но двигался он стремительно, кидал по кольцу почти без промаха.
Переломилось все в одно мгновение, которое для Елисея как бы растянулось в несколько кадров замедленного кино. Всклокоченный парень получил пас, метнулся, ускоряясь, к кольцу. Сбоку, словно прилип к нему, Валерка, они сделали в такт три шага – и ноги парня схлестнулись. Он врезался в стойку щита и свалился на пол без движения. Засуетились игроки, тренер, замелькал белый халат. Когда парня проносили на носилках, с которых свешивались его ноги, Елисей увидел кровь на голове, левая рука неудобно лежала вдоль тела и казалась чужой.
Мимо прошел с довольным видом Валерка и подмигнул: – Теперь мы их сделаем.
Он сказал это бестрепетно, словно ничего не произошло. Чуть позже память вытолкнула эти почти забытые слова, когда Есипов похвалялся знанием разных приемчиком устранения с площадки соперников. Надо было, рассказывал он, пристроиться сбоку к сопернику, сделать два-три шага, ставя ногу в ногу, а потом слегка коленом подсечь ногу соседа – и он свалится, как бревно… Елисей сообразил, что именно таким приемом Валерка и подкосил рыжего парня, без колебания и сожаления, как будто смахнул с поля шахматную фигуру.
В другой раз, когда дело Елисея шло к развязке, он заметил физиономию Есипова недалеко от кабинета, куда был вызван начальством на разборку. Валерка увидел его, и тут же юркнул в группу студентов, спешивших по коридору. Не было никакой явной причины прятаться. Это была осечка с его стороны.
Дальнейшее раскрытие Валерки происходило заочно, после изгнания Елисея из института. Доходили отрывочные слухи о блатной подоплеке его поступления в институт, об удачном, не по способностям, распределении в знаменитую киностудию. Так и наслаивалось одно на другое, пока не родилась уверенность в его прямой причастности к судьбе Елисея…
Есипов стал жевать медленно, глянул на Елисея, отодвинул опустошенную тарелку.
– У меня все было, – он придвинулся. – Деньги, зрелище, бабы, красавица жена, знаменитость. Я получал все, что желал… Все, все было! Знаешь такое, когда разматываешь предысторию какой-нибудь пакости… Ну, чтобы переиначить, избежать, хотя бы мысленно. И всегда находишь такой момент: слово, движение, ход. С которого, понимаешь, все становится неотвратимо. Говорят, Чернобыля не было бы, если бы оператор на пять секунд раньше нажал какую-то кнопку. До этой точки можно было все изменить, а после – никакими силами. Как на машине нужный поворот проскочишь. Сейчас – и неотвратимо. И все, что было – ничто. Ничто! – прошипел он, губы его тряслись и кривились уголками вниз. – У меня ноги холодеют. А что остановит? Что удержит? Блистательная жена? К чему блистательность? И не так все… Деньгами не откупишься никакими. Пробовал. Врачи – такие же ханурики. Гребли охапками, все утешали. Один… один!.. нашелся, сказал, что не надо тратиться. – У Валерки в горле жалобно пискнуло. – Сказал, подлецов только в соблазн вводить. А может, лучше платить? – Он умоляюще глянул на Елисея. – Хоть утешать будут. За деньги все врут.
– Чем же я могу помочь? – спросил Елисей.
Ему было жалко Есипова. Трясущиеся щеки, короткие толстые пальцы, скребущие по столу. Жалко было того стройного, веселого парня, который утонул в этом толстом пропитанном недугом теле.
– По ночам страшно, – глаза Есипова застыли от воспоминания ночных кошмаров, – особенно. Проснусь посреди ночи – и все, так до утра и маюсь… – Его лицо наконец очнулось, он сказал тихо: – Ты не смейся. Не случайно тебе говорю. Когда вспомнил тебя, впервые стал засыпать спокойно. Вспомню – сразу снимается все.
Он грустно вздохнул, обиженно по-детски насупился. У Елисея не проходило ощущение, что он немного пьян, «под наркозом», как он когда-то в юности говаривал.
– Догадывался, что ты все знаешь. Вычислил. Случайности, они нанизываются. Помнишь, в коридоре столкнулись. А потом, уже после, через несколько лет, в метро пересеклись. О-о, я помню твой взгляд! Ты знал уже тогда. А главное – на выставке в этом, в Доме учителя, твою картину видел. Ты там людей наподобие грибов изобразил. Такие серые, ха-ха, как поганки, в небо тянутся, а ноги этакими грибницами в землю корнями уходят. Переплетаются, совокупляются, – прошипел зло Есипов. – Один черный, страшный – это я. – Он покачал головой. – Сходство я уловил. По этому сплетению и понял, что ты все знаешь. Да, мы крепко заплетены. Иной, думаешь, козявка, а копнешь его – и голова кругом пойдет… А один человек на картине, светлый такой, вырвался, помнишь, белым шлейфом в небо поднимается. Это ты… Я сразу понял. Ты еще тогда оторвался от этой слякоти. Может, если бы не я, и тебя бы затянуло? А, вместе с нами?..
Он смотрел долго на Елисея.
– Или другое. Ты можешь мне сказать?.. Я запомнил, как твоя картина толкнула меня тогда. И сейчас – вспомню ее, и что-то отпускает внутри.
Елисей, конечно, помнил эту выставку. Единственную, куда удалось пристроить одну картину. И то благодаря чудаку из отборочной комиссии. Застал его в конце рабочего дня, когда все разбежались. Он не хотел смотреть, торопился, но потом глянул. Почти сразу сказал, что картины не пройдут, но он берется одну вывесить «контрабандой», как он выразился. И действительно, она появилась на второй день после открытия и провисела больше недели. Верно и то, что Елисей писал ее, держа в сердце и Валерку, и всю дрянь и пакость, облепившую их, видимые и невидимые нити, которыми повязаны все.
– А если и я не задержусь здесь? – спросил Елисей. – Ты ведь рассчитываешь, что срок мой не мерян?
Есипов откинулся, рот его открылся, щеки, словно жабры у рыбы, раздувались и опадали. Наконец он выдохнул с шумом воздух, застрявший в горле.
– С тобой-то что? – спросил он.
– Ничего.
– А почему так считаешь?
Елисей повел плечом и ничего не сказал.
Есипов расстроено посопел:
– Ты знаешь, тебе верю. Так и есть тогда.
Он задумался, голова его поникла, подбородок уткнулся в ворот рубахи, щеки оплыли вниз.
– Недавно понял слова моей бывшей супруги. Блистательной, знаменитой. Она, когда расходились мы, призналась. Жизнь, говорит, как скомканное старое грязное белье, – прошла и никакой радости не оставила, утешения нет. А потом говорит – она в свое время хотела детей, да… – Есипов вяло махнул рукой. – Надежда, говорит, остается, если есть дети, а без них… Сейчас понял ее. Когда конец, хочется надежды, хоть краешком, пальчиком, ребенком своим, а зацепиться за эту… ну, небо, солнце из-под тучки, дождик в осеннем тумане, – Есипов всхлипнул. – Знаешь, на чем поймал себя? В такой момент не баб вспоминаешь, не оргию какую-нибудь а-ля студенты, не самый разудалый оргазм. Вот ведь штука! Свинство-то, все о бабах хлопочем, а получается… – Он изумленно поднял палец. – Проклятая тишина на речке, волны бульканье о лодку, когда дождь об листву. У меня к окну верхушка тополя достает. Знаешь, как ночью дождь лупит по листьям, да еще молния полыхает, гром окатит?.. Если б знать, что потом сын твой или дочка в этой комнате проснется такой же ночью, дождевой воздух окатит ознобом, за окном хлещет, полыхает… – Он закрыл глаза, по щеке скользнула слеза. – Да не будет этого… Ничего не будет. Поселят хмыря какого-нибудь. За взятку, или просто за наглую морду. Будет он водку жрать, окурки в окно кидать, в сортире блевать с пережору. А я?.. Вот, хотел тебе повиниться. Тебе, наверное, больше всех напакостил. Думал, хоть вспомнишь, может, простишь?.. Может, с сердцем у тебя что?..
– Я сейчас спать не могу. Мне страшно, ужас!
У него в горле забулькало, зашипело, он всхлипнул. Лицо дрогнуло. Он закрыл глаза рукой и затих.
Подошел официант, стал расставлять закуски. Есипов не двигался. Когда официант отошел, Валерка открыл лицо, схватил вилку и, низко наклонив голову, стал есть, сопя и причмокивая. Елисей тоже принялся жевать, мучимый раздражением от того, что Есипов всколыхнул всю давнюю муть, ненужную, казалось, позабытую, сейчас даже смешную.
Никогда он ни о чем не жалел. Ничего иного ему не требовалось. Единственное, что хотелось понять, зачем о н и это делали, для чего. Во имя чего суетились, предавали, продавали?
О том, что Есипов – главный герой его злоключений, он лишь догадывался. Никаких явных фактов у него не было, и не могло быть. Просто одно за другим копилось, тяготило, как гирьки на весах, пока не сложилось все и не озарила убежденность. Каждая мелочь сама по себе почти ничего не значила. Хотя один эпизод был весьма отвратителен.
Однажды Валерка затянул его посмотреть матч на первенство вузов по баскетболу. Не помнилось уже, с кем играли. Игра шла обычно: стукота мяча, крики немногочисленных болельщиков, потные, разгоряченные игроки. Потом гости вырвались вперед, и разрыв стал расти. Почти все очки набирал длинный мосластый парень с сонным выражением на лице, как будто он только что оторвал от подушки всклокоченную с рыжиной голову – открыл глаза и очень удивился свету. Вид-то сонный, но двигался он стремительно, кидал по кольцу почти без промаха.
Переломилось все в одно мгновение, которое для Елисея как бы растянулось в несколько кадров замедленного кино. Всклокоченный парень получил пас, метнулся, ускоряясь, к кольцу. Сбоку, словно прилип к нему, Валерка, они сделали в такт три шага – и ноги парня схлестнулись. Он врезался в стойку щита и свалился на пол без движения. Засуетились игроки, тренер, замелькал белый халат. Когда парня проносили на носилках, с которых свешивались его ноги, Елисей увидел кровь на голове, левая рука неудобно лежала вдоль тела и казалась чужой.
Мимо прошел с довольным видом Валерка и подмигнул: – Теперь мы их сделаем.
Он сказал это бестрепетно, словно ничего не произошло. Чуть позже память вытолкнула эти почти забытые слова, когда Есипов похвалялся знанием разных приемчиком устранения с площадки соперников. Надо было, рассказывал он, пристроиться сбоку к сопернику, сделать два-три шага, ставя ногу в ногу, а потом слегка коленом подсечь ногу соседа – и он свалится, как бревно… Елисей сообразил, что именно таким приемом Валерка и подкосил рыжего парня, без колебания и сожаления, как будто смахнул с поля шахматную фигуру.
В другой раз, когда дело Елисея шло к развязке, он заметил физиономию Есипова недалеко от кабинета, куда был вызван начальством на разборку. Валерка увидел его, и тут же юркнул в группу студентов, спешивших по коридору. Не было никакой явной причины прятаться. Это была осечка с его стороны.
Дальнейшее раскрытие Валерки происходило заочно, после изгнания Елисея из института. Доходили отрывочные слухи о блатной подоплеке его поступления в институт, об удачном, не по способностям, распределении в знаменитую киностудию. Так и наслаивалось одно на другое, пока не родилась уверенность в его прямой причастности к судьбе Елисея…
Есипов стал жевать медленно, глянул на Елисея, отодвинул опустошенную тарелку.
– У меня все было, – он придвинулся. – Деньги, зрелище, бабы, красавица жена, знаменитость. Я получал все, что желал… Все, все было! Знаешь такое, когда разматываешь предысторию какой-нибудь пакости… Ну, чтобы переиначить, избежать, хотя бы мысленно. И всегда находишь такой момент: слово, движение, ход. С которого, понимаешь, все становится неотвратимо. Говорят, Чернобыля не было бы, если бы оператор на пять секунд раньше нажал какую-то кнопку. До этой точки можно было все изменить, а после – никакими силами. Как на машине нужный поворот проскочишь. Сейчас – и неотвратимо. И все, что было – ничто. Ничто! – прошипел он, губы его тряслись и кривились уголками вниз. – У меня ноги холодеют. А что остановит? Что удержит? Блистательная жена? К чему блистательность? И не так все… Деньгами не откупишься никакими. Пробовал. Врачи – такие же ханурики. Гребли охапками, все утешали. Один… один!.. нашелся, сказал, что не надо тратиться. – У Валерки в горле жалобно пискнуло. – Сказал, подлецов только в соблазн вводить. А может, лучше платить? – Он умоляюще глянул на Елисея. – Хоть утешать будут. За деньги все врут.
– Чем же я могу помочь? – спросил Елисей.
Ему было жалко Есипова. Трясущиеся щеки, короткие толстые пальцы, скребущие по столу. Жалко было того стройного, веселого парня, который утонул в этом толстом пропитанном недугом теле.
– По ночам страшно, – глаза Есипова застыли от воспоминания ночных кошмаров, – особенно. Проснусь посреди ночи – и все, так до утра и маюсь… – Его лицо наконец очнулось, он сказал тихо: – Ты не смейся. Не случайно тебе говорю. Когда вспомнил тебя, впервые стал засыпать спокойно. Вспомню – сразу снимается все.
Он грустно вздохнул, обиженно по-детски насупился. У Елисея не проходило ощущение, что он немного пьян, «под наркозом», как он когда-то в юности говаривал.
– Догадывался, что ты все знаешь. Вычислил. Случайности, они нанизываются. Помнишь, в коридоре столкнулись. А потом, уже после, через несколько лет, в метро пересеклись. О-о, я помню твой взгляд! Ты знал уже тогда. А главное – на выставке в этом, в Доме учителя, твою картину видел. Ты там людей наподобие грибов изобразил. Такие серые, ха-ха, как поганки, в небо тянутся, а ноги этакими грибницами в землю корнями уходят. Переплетаются, совокупляются, – прошипел зло Есипов. – Один черный, страшный – это я. – Он покачал головой. – Сходство я уловил. По этому сплетению и понял, что ты все знаешь. Да, мы крепко заплетены. Иной, думаешь, козявка, а копнешь его – и голова кругом пойдет… А один человек на картине, светлый такой, вырвался, помнишь, белым шлейфом в небо поднимается. Это ты… Я сразу понял. Ты еще тогда оторвался от этой слякоти. Может, если бы не я, и тебя бы затянуло? А, вместе с нами?..
Он смотрел долго на Елисея.
– Или другое. Ты можешь мне сказать?.. Я запомнил, как твоя картина толкнула меня тогда. И сейчас – вспомню ее, и что-то отпускает внутри.
Елисей, конечно, помнил эту выставку. Единственную, куда удалось пристроить одну картину. И то благодаря чудаку из отборочной комиссии. Застал его в конце рабочего дня, когда все разбежались. Он не хотел смотреть, торопился, но потом глянул. Почти сразу сказал, что картины не пройдут, но он берется одну вывесить «контрабандой», как он выразился. И действительно, она появилась на второй день после открытия и провисела больше недели. Верно и то, что Елисей писал ее, держа в сердце и Валерку, и всю дрянь и пакость, облепившую их, видимые и невидимые нити, которыми повязаны все.
– А если и я не задержусь здесь? – спросил Елисей. – Ты ведь рассчитываешь, что срок мой не мерян?
Есипов откинулся, рот его открылся, щеки, словно жабры у рыбы, раздувались и опадали. Наконец он выдохнул с шумом воздух, застрявший в горле.
– С тобой-то что? – спросил он.
– Ничего.
– А почему так считаешь?
Елисей повел плечом и ничего не сказал.
Есипов расстроено посопел:
– Ты знаешь, тебе верю. Так и есть тогда.
Он задумался, голова его поникла, подбородок уткнулся в ворот рубахи, щеки оплыли вниз.
– Недавно понял слова моей бывшей супруги. Блистательной, знаменитой. Она, когда расходились мы, призналась. Жизнь, говорит, как скомканное старое грязное белье, – прошла и никакой радости не оставила, утешения нет. А потом говорит – она в свое время хотела детей, да… – Есипов вяло махнул рукой. – Надежда, говорит, остается, если есть дети, а без них… Сейчас понял ее. Когда конец, хочется надежды, хоть краешком, пальчиком, ребенком своим, а зацепиться за эту… ну, небо, солнце из-под тучки, дождик в осеннем тумане, – Есипов всхлипнул. – Знаешь, на чем поймал себя? В такой момент не баб вспоминаешь, не оргию какую-нибудь а-ля студенты, не самый разудалый оргазм. Вот ведь штука! Свинство-то, все о бабах хлопочем, а получается… – Он изумленно поднял палец. – Проклятая тишина на речке, волны бульканье о лодку, когда дождь об листву. У меня к окну верхушка тополя достает. Знаешь, как ночью дождь лупит по листьям, да еще молния полыхает, гром окатит?.. Если б знать, что потом сын твой или дочка в этой комнате проснется такой же ночью, дождевой воздух окатит ознобом, за окном хлещет, полыхает… – Он закрыл глаза, по щеке скользнула слеза. – Да не будет этого… Ничего не будет. Поселят хмыря какого-нибудь. За взятку, или просто за наглую морду. Будет он водку жрать, окурки в окно кидать, в сортире блевать с пережору. А я?.. Вот, хотел тебе повиниться. Тебе, наверное, больше всех напакостил. Думал, хоть вспомнишь, может, простишь?.. Может, с сердцем у тебя что?..
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: