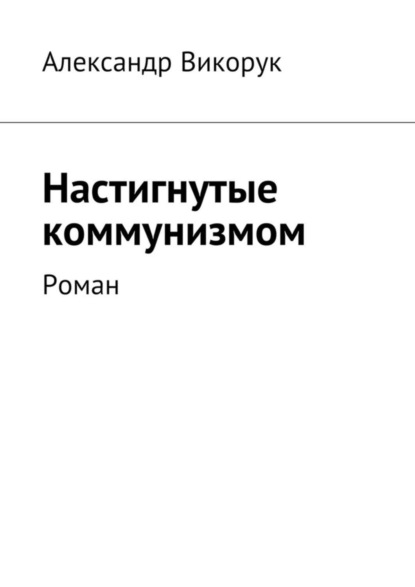По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Настигнутые коммунизмом. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Опять вы за свое. – Есипов отодвинулся на спинку кресла, помял губами. – Занятный разговорец был. Но лучше, знаете, на эту тему балакать по дороге в Париж, а не наоборот. У нас сейчас – холод, гололед. – Есипов мрачно выругался.
– О-ох, – со стоном выдохнул Есипов. – Ну и тоску нагнали. Одни покойники у вас.
Вадим Андреевич засмеялся.
– А знаете, почему при социализме смерти как бы не существует? – с улыбкой спросил Вадим Андреевич.
– Чтоб настроение не портить.
– Чтобы остатки социализма не пропили и не разворовали, – смеясь, сказал Вадим Андреевич. – По ленинизму ведь как? Там – яма вонючая: ни выпить, ни закусить, ни бабу обхватить. Одна гниль. До светлого будущего не дожить – обманули. Так хватай, тащи, жри в три горла!
– Под кайфом подохнуть веселее, – заулыбался Есипов и потянулся. – В нашем доме в прошлом году пенсионер один загнулся на бабе. Смеху было.
– Во! Наяривай, тащи все, что под руку угодило.
– Правда, разворуют.
– Поэтому цензоры и вымарывают мысль о смерти. Не дай Бог, вспомнят, задумаются, ужаснутся.
Тут Есипов закхекал мелким смешком.
– Да, Вадим Андреевич, – сказал он. – Советую и вам задуматься. Знаете, сколько стоит родине такой типчик, как Селин? Ого-го! А вы своей болтовней довели его до порчи государственного имущества. Селин теперь годится только на корм червям. И то – иностранного подданства. Так готовьтесь отвечать по всей строгости закона. Причинение ущерба госсобственности в особо крупных размерах. Помрете вы или нет, это еще не известно. Может, дотянете до суда… А теперь мне отдохнуть надо.
Голова Есипова отодвинулась назад, веки опустились, и он засопел, приоткрыв рот. В иллюминаторе, немного впереди, в лунном свете серебрилась узкая плоскость крыла. Словно живое, крыло трепетало в невидимом мощном потоке воздуха. Ниже бесконечно тянулась белая равнина облачности с кружевными ложбинами, холмами. Вдали Марков разглядел темный крестик тени от самолета. Крестик скользил по неровной поверхности и, казалось, вот-вот распадется и исчезнет, растворится в бескрайней пелене. Вадим Андреевич прильнул к иллюминатору. Свет в салоне был приглушен и не мешал мерцанию звезд. Их было бесконечно много, свет звезд одолевал тьму, окутывал глаза, лицо, лоб. Почудилось, что они окружили голову, и их мягкий свет тонкими лучами входит в затылок.
Вадим Андреевич вздрогнул, с удивлением оглянулся и понял, что обманулся: сзади были кресла, размягченные лица спящих пассажиров. «Но ведь что-то коснулось затылка?», – подумал Вадим Андреевич. Он закрыл глаза, пытаясь понять и удержать то легкое дуновение счастья и радости, просиявшие на него. Такое ликование должен испытывать любой человек, где бы и когда бы он ни жил. В этом Вадим Андреевич был уверен. Тысячи лет назад было такое небо, те же бескрайние моря уходили от берегов в бездонное небо, те же потоки воздуха омывали долины, наполненные неуловимым мерцанием света звезд. Нет ни времени, ни пространства между сотнями поколений людей. В эту минуту, под этими звездами можно коснуться пальцами человека, которого зовут Христос. Он сидит на холме и смотрит в черное небо, в котором живо плещет звездный свет. Вокруг мерно течет океан воздуха, в нем смешалось дыхание миллионов травинок, цветов, затихшие голоса и движения людей. Канул на дно черный песок ненависти. Нет злобы тесных и раздраженных улочек города, тяжелые глыбы городских построек кажутся песчинками, которые тонут в темной пене листьев деревьев.
Вздох ветра смывает тяжесть, тьма вспыхивает сиянием звезд, и становится понятна мысль. Я пришел к вам, такой же, как вы. Там, во тьме, осталось мое имя. Мы вместе, вечно.
Вадим Андреевич вздрогнул, холод в груди тихо растаял. Он открыл глаза, оглядел ряды кресел, сонно поникшие головы с растрепанными волосами. Вадим Андреевич пальцами ощутил тяжесть и ненужность предметов, окружавших его. Тут же нагрянула ненависть и возбуждение предстоящей толчеи аэропорта. Он будто увидел скованные и напряженные лица гэбэшников, которые, словно тараканы, невидимо заполняют все здание аэровокзала. «Нет, – подумал он, вспомнив слова Дмитрия Есипова, – достойнее не жить»…
На рассвете мутного холодного дня, нырнув из озаренного ранним солнцем неба, самолет прорвал толщу облаков, всей махиной рухнул на посадочную полосу, с лихорадочной дрожью сбросил скорость и подкатил к аэровокзалу. Толпа измученных бессонной ночью пассажиров набилась в тесное душное помещение. Навстречу пялились бледные лица.
Вадим Андреевич почувствовал охватившее горло и грудь удушье, лица исчезли. Ноги обессилели, и он мягко и расслабленно повалился на пол. Сзади, изумленно раскрыв глаза, онемело стоял побелевший от ужаса Валерий Есипов…
Еще в самом легкомысленном детстве случались намеки, наплывы неведомого. Они лишь слегка трогали детское воображение. Торопливое чутье ребенка не способно было сопереживать. Но цепкая память не плошала: оставляла про запас, на потом.
Оставила консервную банку и двух стариков. Яркое сентябрьское утро, оскорбительно громко гремит банка по тротуару, и он, первоклашка, поспешает за ней, пиная ботинками по бокам…
Старики стояли в пустоте старого кривого московского переулка, похожие друг на друга, как близнецы: исхудавшие, с клоками седых волос, в обтрепанных мятых стариковских брюках, клетчатых пиджаках. Истина была в притяжении их взглядов, невозможности разойтись, отвернуться, в том, как рука одного взвилась – и высоко в небо взорвался звук пощечины. Елисей обмер, банка ускользнула в сторону, затихла, чтобы навсегда врезаться в память вместе с золотой пылью на сером асфальте, фиолетово-голубым осеннем небом, серыми стенами домов, бесплотными фигурами стариков, которые не смогли разминуться в миллионном городе, в бессчетной череде дней. Как два полярных заряда, они стремились навстречу, чтобы тихим утром разломилось небо, чтобы над его детской головой пронеслась буря, о которой он еще ничего не ведал… Рассеялась оторопь, охватившая его и двух стариков. Он помчался дальше в школу, унося в себе молекулу потрясения, которая будет расти, тревожить.
Позднее, через года ему уже не составило особых трудов сопоставить несчастных стариков с эпохой, когда жертвы возвращались в жизнь, чтобы выплеснуть многолетнюю ненависть на своих палачей. Это было время, когда снимали со стен тесных комнатенок портреты генералиссимуса, но все еще говорили шепотом…
Под утро сон стал тягучим словно густая трясина. Слова рвались, путались, превращаясь в бред. … Я пришел. Мать звали Мария, отца – Иван. Имя мне дали Елисей. Как брошенное в землю зерно, оно росло вместе со мной. От детского Лися, что еще звучит во мне нежным звуком материнского голоса, до многоликого, странного существа: тихого или грубого, истертого, тусклого, как старый пятак, или дорогого, как последняя надежда. Наступит день – имя мое отделится от меня и придет иное… Танец, почти полет, плавный, воздушный, с девушкой, незнакомой, но удивительно близкой, понятной и желанной. Потом появляется жена с каменной поступью командора. «Теперь все! – говорит Елисей девушке. – Это моя жена…» Тут вместо жены он вдруг узнает маму. «Где же ты была все это долгое время?» – вырвалось у него. «Я сидела за шкафом», – сказала она. Затем последовало безумное веселье, неистовый смех… Очнулся Елисей в слезах. С трудом пытался уловить логику сна…
Илья Ефимович стоял у книжной полки, его пальцы двигались по темным корешкам.
– Но ведь вы живы? – спросил Елисей.
– Жив, еще как, – он оглянулся, пожал плечами и неопределенно повел в воздухе рукой. – Законы искусства… требуют.
– А Париж?
– А Вадим Марков?
– Всю тяжесть событий на себя взял. Его тоже не было, – усмехнулся Миколюта.
– Что же было?
– Что-то, конечно, было, – сказал Илья Ефимович, ехидно прищуриваясь. – Многотиражка была, редактор. Даже разгон редакции состоялся. Только по другому поводу. Шел однажды секретарь парткома по коридорчику мимо редакции да взбрело ему в голову зайти, обозреть хозяйским глазом пост идеологической работы. Зашел. А глаз у секретарей орлиный. Как в ворохе бумаг узрел? В общем, выхватил из кучи газет брошюрку Солженицына, тамиздат… Идеологическая диверсия. В результате все мы вылетели из редакции… Был, конечно, Есипов, его изобретенное самоубийство, заветная папка, подельник мой парижский. Как это все соединилось? Самому трудно объяснить. Было желание встретиться с Селиным. Наверное, просто тоска по молодости. Пожалуй, идея турпоездки в Париж, нахальство все – возникло из ощущения гнили, партийного кретинизма. Всеобщая казарма. С одной стороны, запреты, болтовня аскетически-романтическая с трибуны – и гнилое нутро, с другой стороны, водка, анекдоты, собачьи свадьбы на кожаных диванах под портретом генсека.
– И Селин, кажется, жив? – спросил Елисей.
– Конечно. Как-то открытку к Новому году прислал. Написал, что пальто может выслать, размером интересовался. Я отказался.
– Противно?
– У меня все есть. Ничего не нужно. Я свободен. Это главное. – Он задумался, потом усмехнулся и добавил: – Если бы вы знали, сколько вокруг этой истории намешано. Сам удивляюсь. Записал где-то через полгода после того, как редакцию многотиражки расшуровали.
Нелепая фраза: «Я сидела за шкафом», – навязчиво возникла в памяти Елисея. Хотя, мама всегда присутствовала во всем и везде, оставаясь в тени, ненавязчиво хлопотала, прикрывала, защищая, беспокоясь. Незадолго перед смертью, наверное, предчувствуя неотвратимое, она ни словом не обмолвилась, а стала хлопотать по бесконечным домашним делам. Стирала полотенца в ванной, подметала, сидя на стуле, по несколько раз на кухне. Лишь однажды обронила едва слышно, как бы про себя: «Как тебе трудно будет». Она смотрела в окно на поздний июньский закат. Солнце все никак не могло потеряться в деревьях, слабело, тускнело – и все мерцало вспышками в листве. Стрижи сумасшедше чертили небо, рассекая скрипучими трелями бормотание городского вечера.
Елисей тогда промолчал, пытаясь, наверное, скрыть понимание смысла ее слов, но тут же накатила волна тоски, жалости.
«Но почему произошло это несовместимое превращение жены в маму?» – попытался понять Елисей. Невозможно представить более несовпадающих людей. Наверное, это уже он сам волевым усилием рванулся к спасительнице маме, которая одной своей жизнью могла искупить всю глупость знакомых ему женщин. Как ни смешно, думал он, а скорее грустно, но больше всего подходит жене роль надзирательницы, которая должна зорко блюсти его, чтобы, тьфу-тьфу, не загляделся на сторону. Уж она-то нутром чует, как томится его душа от ее твердой поступи командора. От того и явилась сразу, едва он окунулся в пригрезившийся полет, освобождение от всего. И ему заодно предупреждение, что сладкие сны недолго длятся – за ними следует чуть ли не наказание смертное, что-нибудь вроде ржавых гвоздей по рукам и ногам, чтобы неповадно было.
В памяти выплыл смешной преподаватель научного коммунизма Яков Ильич, толстенький еврей с добрейшей улыбкой на круглом лице, плешивый, с хитринкой в рыжих глазах. На семинарских занятиях говорил – иногда с ноткой отчаянья – что хочет научить студентов самостоятельно мыслить, просил дать примеры из жизни, которые подтвердили бы всегда верные и бессмертные выводы классиков марксизма. А когда студенты сбивались на бредовый язык учебников, рассказывал об уборщице, которая мыла полы на их кафедре. «Як-ыч, Як-ыч», – так величала она преподавателя. Она благоволила к нему, рассказывала о тягомотной, как она говорила, жизни деревенских родственников, люто ненавидела студентов, курящих, сорящих, пачкающих, гадящих в туалетах. «Как лошади, – воздевая руки, закатывая глаза, играл её гнев Яков Ильич, – кучи кладут, как лошади…» Елисей улыбнулся воспоминаниям. Наверное, давно уже в Израиле. Нежится на берегах Средиземного моря, под вечным небом Иудеи. Иногда, может быть, заходится истерическим смехом, вспомнив родину, но никто его истерике не удивляется. Там много таких, кого тревожит прошлое. Яков Ильич тоже понял, что никуда не уплыть от своей жизни.
Илья Ефимович ушел собираться к себе, а Елисей с дочкой вышел на безлюдную платформу. Далеко позади остался шлюз с маленькими корабликами, на которых хотелось уплыть подальше. Аля торопилась вперед, говорила о встрече с подружкой-соседкой, и постепенно уходило дорожное оцепенение, надвигались мысли о делах.
Увиденный на асфальте дождевой червяк вызвал у Али всплеск восторгов. Они выбили Елисея из колеи привычных дум.
На повороте к трамвайной линии они нагнали старушку в застиранной синей юбке и жакете с блеклым белым узором на синем фоне. Седенькие волосы были стянуты в пучок на затылке, сквозь жидкие пряди проглядывала бледная кожа. Она неуверенно оглядывалась.
– Будьте так любезны, – заговорила она. – Мне объясняли, здесь автобус где-то до Пресни? Не подскажите?
Елисей показал, как пройти, и двинулся дальше, потянув дочку за руку.
– Вы не за гэкачэпэ? – спросила взволнованно старушка.
– Сейчас все за свободу, – усмехнулся Елисей и вспомнил довольных пенсионеров в электричке.
– Ошибаетесь, – с тревогой выпалила старушка. – Вшивое племя довольно, в восторге. Так зову их. – Ее лицо покраснело от возбуждения, но глубоко запавшие глаза смотрели тихо и скорбно: – Это как тиф: люди мрут, а вши жиреют, множатся, полчищами ползут. Они у меня всех сожрали: мужа, дочку… А мне справочку, мол, реабилитирована, и покойников реабилитировали, – она нервно улыбнулась. – Вот, к Белому дому собралась… Или отстоим, или пусть сожрут сейчас, чтобы не видеть. Нагляделась, как по живым людям вши ползут.
Елисей с дочкой свернул к дому, краем глаза заметил, как старушка уже издалека оглянулась на них, потом заговорила с полной женщиной с двумя увесистыми кошелками. Мелькнула мысль о том, какими красками на холсте передать волнение старушки, унижение безвинной смертью, бесконечный шорох сытого воспроизводства серой пелены вшей. Он засмеялся, представив картину, где с кретинской скрупулезностью изображены старушка с черным лицом, покойник в грязных лохмотьях на нарах. Он только что предсмертно содрогнулся, распался беззубый рот и – чудится – зашевелилась серая кисея из тьмы насекомых. «Дураки будут считать вшей, – подумал весело Елисей, – парторг задолдонит о бесчисленных жертвах царизма. А чудом выживший зэк плюнет, скажет, что красок жалко».
Для него достаточно клочка мрака, чтобы похолодеть от ужаса. Может, прав Малевич со своим квадратом? Не надо портить краски. Взять почернее да погуще и пропитать холст… Умный человек взглянет – и заплачет безутешно. Зачем разжевывать до сладковатой кисельной кашицы? Чтобы всякий, помусолив, радовался сладенькому, понятному? Сокровенное все равно побоку! Лучше наплевать на толпу, бестолковых, захваченных своими мыслями. Писать скупо, самое главное… Подойдет он, тот самый, единственный – и все поймет, и ужаснется…
Невидимая золотая пыльца лежала на мелькавших за окном перелесках, дачных хибарках, на одежде пассажиров, на дряблых лицах оживленных пенсионеров, на высветленных летним солнцем кудряшках дочки.
– О-ох, – со стоном выдохнул Есипов. – Ну и тоску нагнали. Одни покойники у вас.
Вадим Андреевич засмеялся.
– А знаете, почему при социализме смерти как бы не существует? – с улыбкой спросил Вадим Андреевич.
– Чтоб настроение не портить.
– Чтобы остатки социализма не пропили и не разворовали, – смеясь, сказал Вадим Андреевич. – По ленинизму ведь как? Там – яма вонючая: ни выпить, ни закусить, ни бабу обхватить. Одна гниль. До светлого будущего не дожить – обманули. Так хватай, тащи, жри в три горла!
– Под кайфом подохнуть веселее, – заулыбался Есипов и потянулся. – В нашем доме в прошлом году пенсионер один загнулся на бабе. Смеху было.
– Во! Наяривай, тащи все, что под руку угодило.
– Правда, разворуют.
– Поэтому цензоры и вымарывают мысль о смерти. Не дай Бог, вспомнят, задумаются, ужаснутся.
Тут Есипов закхекал мелким смешком.
– Да, Вадим Андреевич, – сказал он. – Советую и вам задуматься. Знаете, сколько стоит родине такой типчик, как Селин? Ого-го! А вы своей болтовней довели его до порчи государственного имущества. Селин теперь годится только на корм червям. И то – иностранного подданства. Так готовьтесь отвечать по всей строгости закона. Причинение ущерба госсобственности в особо крупных размерах. Помрете вы или нет, это еще не известно. Может, дотянете до суда… А теперь мне отдохнуть надо.
Голова Есипова отодвинулась назад, веки опустились, и он засопел, приоткрыв рот. В иллюминаторе, немного впереди, в лунном свете серебрилась узкая плоскость крыла. Словно живое, крыло трепетало в невидимом мощном потоке воздуха. Ниже бесконечно тянулась белая равнина облачности с кружевными ложбинами, холмами. Вдали Марков разглядел темный крестик тени от самолета. Крестик скользил по неровной поверхности и, казалось, вот-вот распадется и исчезнет, растворится в бескрайней пелене. Вадим Андреевич прильнул к иллюминатору. Свет в салоне был приглушен и не мешал мерцанию звезд. Их было бесконечно много, свет звезд одолевал тьму, окутывал глаза, лицо, лоб. Почудилось, что они окружили голову, и их мягкий свет тонкими лучами входит в затылок.
Вадим Андреевич вздрогнул, с удивлением оглянулся и понял, что обманулся: сзади были кресла, размягченные лица спящих пассажиров. «Но ведь что-то коснулось затылка?», – подумал Вадим Андреевич. Он закрыл глаза, пытаясь понять и удержать то легкое дуновение счастья и радости, просиявшие на него. Такое ликование должен испытывать любой человек, где бы и когда бы он ни жил. В этом Вадим Андреевич был уверен. Тысячи лет назад было такое небо, те же бескрайние моря уходили от берегов в бездонное небо, те же потоки воздуха омывали долины, наполненные неуловимым мерцанием света звезд. Нет ни времени, ни пространства между сотнями поколений людей. В эту минуту, под этими звездами можно коснуться пальцами человека, которого зовут Христос. Он сидит на холме и смотрит в черное небо, в котором живо плещет звездный свет. Вокруг мерно течет океан воздуха, в нем смешалось дыхание миллионов травинок, цветов, затихшие голоса и движения людей. Канул на дно черный песок ненависти. Нет злобы тесных и раздраженных улочек города, тяжелые глыбы городских построек кажутся песчинками, которые тонут в темной пене листьев деревьев.
Вздох ветра смывает тяжесть, тьма вспыхивает сиянием звезд, и становится понятна мысль. Я пришел к вам, такой же, как вы. Там, во тьме, осталось мое имя. Мы вместе, вечно.
Вадим Андреевич вздрогнул, холод в груди тихо растаял. Он открыл глаза, оглядел ряды кресел, сонно поникшие головы с растрепанными волосами. Вадим Андреевич пальцами ощутил тяжесть и ненужность предметов, окружавших его. Тут же нагрянула ненависть и возбуждение предстоящей толчеи аэропорта. Он будто увидел скованные и напряженные лица гэбэшников, которые, словно тараканы, невидимо заполняют все здание аэровокзала. «Нет, – подумал он, вспомнив слова Дмитрия Есипова, – достойнее не жить»…
На рассвете мутного холодного дня, нырнув из озаренного ранним солнцем неба, самолет прорвал толщу облаков, всей махиной рухнул на посадочную полосу, с лихорадочной дрожью сбросил скорость и подкатил к аэровокзалу. Толпа измученных бессонной ночью пассажиров набилась в тесное душное помещение. Навстречу пялились бледные лица.
Вадим Андреевич почувствовал охватившее горло и грудь удушье, лица исчезли. Ноги обессилели, и он мягко и расслабленно повалился на пол. Сзади, изумленно раскрыв глаза, онемело стоял побелевший от ужаса Валерий Есипов…
Еще в самом легкомысленном детстве случались намеки, наплывы неведомого. Они лишь слегка трогали детское воображение. Торопливое чутье ребенка не способно было сопереживать. Но цепкая память не плошала: оставляла про запас, на потом.
Оставила консервную банку и двух стариков. Яркое сентябрьское утро, оскорбительно громко гремит банка по тротуару, и он, первоклашка, поспешает за ней, пиная ботинками по бокам…
Старики стояли в пустоте старого кривого московского переулка, похожие друг на друга, как близнецы: исхудавшие, с клоками седых волос, в обтрепанных мятых стариковских брюках, клетчатых пиджаках. Истина была в притяжении их взглядов, невозможности разойтись, отвернуться, в том, как рука одного взвилась – и высоко в небо взорвался звук пощечины. Елисей обмер, банка ускользнула в сторону, затихла, чтобы навсегда врезаться в память вместе с золотой пылью на сером асфальте, фиолетово-голубым осеннем небом, серыми стенами домов, бесплотными фигурами стариков, которые не смогли разминуться в миллионном городе, в бессчетной череде дней. Как два полярных заряда, они стремились навстречу, чтобы тихим утром разломилось небо, чтобы над его детской головой пронеслась буря, о которой он еще ничего не ведал… Рассеялась оторопь, охватившая его и двух стариков. Он помчался дальше в школу, унося в себе молекулу потрясения, которая будет расти, тревожить.
Позднее, через года ему уже не составило особых трудов сопоставить несчастных стариков с эпохой, когда жертвы возвращались в жизнь, чтобы выплеснуть многолетнюю ненависть на своих палачей. Это было время, когда снимали со стен тесных комнатенок портреты генералиссимуса, но все еще говорили шепотом…
Под утро сон стал тягучим словно густая трясина. Слова рвались, путались, превращаясь в бред. … Я пришел. Мать звали Мария, отца – Иван. Имя мне дали Елисей. Как брошенное в землю зерно, оно росло вместе со мной. От детского Лися, что еще звучит во мне нежным звуком материнского голоса, до многоликого, странного существа: тихого или грубого, истертого, тусклого, как старый пятак, или дорогого, как последняя надежда. Наступит день – имя мое отделится от меня и придет иное… Танец, почти полет, плавный, воздушный, с девушкой, незнакомой, но удивительно близкой, понятной и желанной. Потом появляется жена с каменной поступью командора. «Теперь все! – говорит Елисей девушке. – Это моя жена…» Тут вместо жены он вдруг узнает маму. «Где же ты была все это долгое время?» – вырвалось у него. «Я сидела за шкафом», – сказала она. Затем последовало безумное веселье, неистовый смех… Очнулся Елисей в слезах. С трудом пытался уловить логику сна…
Илья Ефимович стоял у книжной полки, его пальцы двигались по темным корешкам.
– Но ведь вы живы? – спросил Елисей.
– Жив, еще как, – он оглянулся, пожал плечами и неопределенно повел в воздухе рукой. – Законы искусства… требуют.
– А Париж?
– А Вадим Марков?
– Всю тяжесть событий на себя взял. Его тоже не было, – усмехнулся Миколюта.
– Что же было?
– Что-то, конечно, было, – сказал Илья Ефимович, ехидно прищуриваясь. – Многотиражка была, редактор. Даже разгон редакции состоялся. Только по другому поводу. Шел однажды секретарь парткома по коридорчику мимо редакции да взбрело ему в голову зайти, обозреть хозяйским глазом пост идеологической работы. Зашел. А глаз у секретарей орлиный. Как в ворохе бумаг узрел? В общем, выхватил из кучи газет брошюрку Солженицына, тамиздат… Идеологическая диверсия. В результате все мы вылетели из редакции… Был, конечно, Есипов, его изобретенное самоубийство, заветная папка, подельник мой парижский. Как это все соединилось? Самому трудно объяснить. Было желание встретиться с Селиным. Наверное, просто тоска по молодости. Пожалуй, идея турпоездки в Париж, нахальство все – возникло из ощущения гнили, партийного кретинизма. Всеобщая казарма. С одной стороны, запреты, болтовня аскетически-романтическая с трибуны – и гнилое нутро, с другой стороны, водка, анекдоты, собачьи свадьбы на кожаных диванах под портретом генсека.
– И Селин, кажется, жив? – спросил Елисей.
– Конечно. Как-то открытку к Новому году прислал. Написал, что пальто может выслать, размером интересовался. Я отказался.
– Противно?
– У меня все есть. Ничего не нужно. Я свободен. Это главное. – Он задумался, потом усмехнулся и добавил: – Если бы вы знали, сколько вокруг этой истории намешано. Сам удивляюсь. Записал где-то через полгода после того, как редакцию многотиражки расшуровали.
Нелепая фраза: «Я сидела за шкафом», – навязчиво возникла в памяти Елисея. Хотя, мама всегда присутствовала во всем и везде, оставаясь в тени, ненавязчиво хлопотала, прикрывала, защищая, беспокоясь. Незадолго перед смертью, наверное, предчувствуя неотвратимое, она ни словом не обмолвилась, а стала хлопотать по бесконечным домашним делам. Стирала полотенца в ванной, подметала, сидя на стуле, по несколько раз на кухне. Лишь однажды обронила едва слышно, как бы про себя: «Как тебе трудно будет». Она смотрела в окно на поздний июньский закат. Солнце все никак не могло потеряться в деревьях, слабело, тускнело – и все мерцало вспышками в листве. Стрижи сумасшедше чертили небо, рассекая скрипучими трелями бормотание городского вечера.
Елисей тогда промолчал, пытаясь, наверное, скрыть понимание смысла ее слов, но тут же накатила волна тоски, жалости.
«Но почему произошло это несовместимое превращение жены в маму?» – попытался понять Елисей. Невозможно представить более несовпадающих людей. Наверное, это уже он сам волевым усилием рванулся к спасительнице маме, которая одной своей жизнью могла искупить всю глупость знакомых ему женщин. Как ни смешно, думал он, а скорее грустно, но больше всего подходит жене роль надзирательницы, которая должна зорко блюсти его, чтобы, тьфу-тьфу, не загляделся на сторону. Уж она-то нутром чует, как томится его душа от ее твердой поступи командора. От того и явилась сразу, едва он окунулся в пригрезившийся полет, освобождение от всего. И ему заодно предупреждение, что сладкие сны недолго длятся – за ними следует чуть ли не наказание смертное, что-нибудь вроде ржавых гвоздей по рукам и ногам, чтобы неповадно было.
В памяти выплыл смешной преподаватель научного коммунизма Яков Ильич, толстенький еврей с добрейшей улыбкой на круглом лице, плешивый, с хитринкой в рыжих глазах. На семинарских занятиях говорил – иногда с ноткой отчаянья – что хочет научить студентов самостоятельно мыслить, просил дать примеры из жизни, которые подтвердили бы всегда верные и бессмертные выводы классиков марксизма. А когда студенты сбивались на бредовый язык учебников, рассказывал об уборщице, которая мыла полы на их кафедре. «Як-ыч, Як-ыч», – так величала она преподавателя. Она благоволила к нему, рассказывала о тягомотной, как она говорила, жизни деревенских родственников, люто ненавидела студентов, курящих, сорящих, пачкающих, гадящих в туалетах. «Как лошади, – воздевая руки, закатывая глаза, играл её гнев Яков Ильич, – кучи кладут, как лошади…» Елисей улыбнулся воспоминаниям. Наверное, давно уже в Израиле. Нежится на берегах Средиземного моря, под вечным небом Иудеи. Иногда, может быть, заходится истерическим смехом, вспомнив родину, но никто его истерике не удивляется. Там много таких, кого тревожит прошлое. Яков Ильич тоже понял, что никуда не уплыть от своей жизни.
Илья Ефимович ушел собираться к себе, а Елисей с дочкой вышел на безлюдную платформу. Далеко позади остался шлюз с маленькими корабликами, на которых хотелось уплыть подальше. Аля торопилась вперед, говорила о встрече с подружкой-соседкой, и постепенно уходило дорожное оцепенение, надвигались мысли о делах.
Увиденный на асфальте дождевой червяк вызвал у Али всплеск восторгов. Они выбили Елисея из колеи привычных дум.
На повороте к трамвайной линии они нагнали старушку в застиранной синей юбке и жакете с блеклым белым узором на синем фоне. Седенькие волосы были стянуты в пучок на затылке, сквозь жидкие пряди проглядывала бледная кожа. Она неуверенно оглядывалась.
– Будьте так любезны, – заговорила она. – Мне объясняли, здесь автобус где-то до Пресни? Не подскажите?
Елисей показал, как пройти, и двинулся дальше, потянув дочку за руку.
– Вы не за гэкачэпэ? – спросила взволнованно старушка.
– Сейчас все за свободу, – усмехнулся Елисей и вспомнил довольных пенсионеров в электричке.
– Ошибаетесь, – с тревогой выпалила старушка. – Вшивое племя довольно, в восторге. Так зову их. – Ее лицо покраснело от возбуждения, но глубоко запавшие глаза смотрели тихо и скорбно: – Это как тиф: люди мрут, а вши жиреют, множатся, полчищами ползут. Они у меня всех сожрали: мужа, дочку… А мне справочку, мол, реабилитирована, и покойников реабилитировали, – она нервно улыбнулась. – Вот, к Белому дому собралась… Или отстоим, или пусть сожрут сейчас, чтобы не видеть. Нагляделась, как по живым людям вши ползут.
Елисей с дочкой свернул к дому, краем глаза заметил, как старушка уже издалека оглянулась на них, потом заговорила с полной женщиной с двумя увесистыми кошелками. Мелькнула мысль о том, какими красками на холсте передать волнение старушки, унижение безвинной смертью, бесконечный шорох сытого воспроизводства серой пелены вшей. Он засмеялся, представив картину, где с кретинской скрупулезностью изображены старушка с черным лицом, покойник в грязных лохмотьях на нарах. Он только что предсмертно содрогнулся, распался беззубый рот и – чудится – зашевелилась серая кисея из тьмы насекомых. «Дураки будут считать вшей, – подумал весело Елисей, – парторг задолдонит о бесчисленных жертвах царизма. А чудом выживший зэк плюнет, скажет, что красок жалко».
Для него достаточно клочка мрака, чтобы похолодеть от ужаса. Может, прав Малевич со своим квадратом? Не надо портить краски. Взять почернее да погуще и пропитать холст… Умный человек взглянет – и заплачет безутешно. Зачем разжевывать до сладковатой кисельной кашицы? Чтобы всякий, помусолив, радовался сладенькому, понятному? Сокровенное все равно побоку! Лучше наплевать на толпу, бестолковых, захваченных своими мыслями. Писать скупо, самое главное… Подойдет он, тот самый, единственный – и все поймет, и ужаснется…
Невидимая золотая пыльца лежала на мелькавших за окном перелесках, дачных хибарках, на одежде пассажиров, на дряблых лицах оживленных пенсионеров, на высветленных летним солнцем кудряшках дочки.