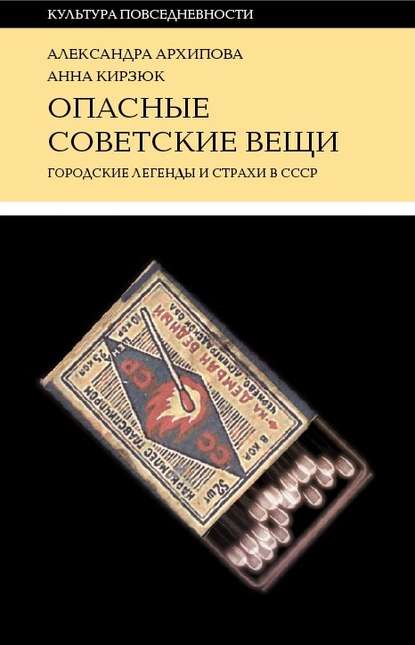По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Опасные советские вещи
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Городская легенда как результат эволюционной гонки
И тут мы подходим к очень важному логическому повороту в «меметических исследованиях». Если мы не понимаем из содержания легенды, почему носители предпочитают ту или иную версию, не сможем ли мы понять это, проанализировав поведение носителей? Конечно, для проведения таких исследований в реальности требуется всего ничего: нужна либо огромная база данных, где разные культуры описываются по одним и тем же параметрам (так называемая кросс-культурная база), либо лаборатория и эксперимент.
Помните ли вы сказку «Морозко» – о злой мачехе и доброй падчерице, которая известна более чем в девятистах этнических версиях и является самой распространенной волшебной сказкой[57 - Roberts 1994.] (обойдя по этому параметру «Золушку»)? Несколько лет назад один из авторов этих строк вместе с фольклористом Артемом Козьминым задались вопросом – а зависят ли варианты сюжета от какого-нибудь из предпочтений рассказчиков? Выяснилось, что такие параметры есть, но они связаны не с моралью сказки, а с тем, как описывается вознаграждение героини за ее доброту. Для культур, где исповедуются авраамические религии (в первую очередь христианство), с большой вероятностью в качестве награды появится физическая трансформация облика (девушка становится красавицей, сияет, как солнце, у нее волосы, как чистое золото, изо рта падают розы). Наличие в данной культуре религиозного учения о символическом духовном перерождении как жизненной цели заставляет рассказчика акцентировать в сказке именно этот вариант награды – видимо, потому что ему это нравится. Если же этническая группа, у которой записан текст, придерживается более архаических (не авраамических) верований, то физическая трансформация там непопулярна, а рассказчики предпочитают конец истории, где герой получает материальную награду: драгоценности, волшебные предметы или хорошего мужа[58 - Подробнее см.: Архипова, Козьмин 2009.].
Конечно, такие исследования возможно сделать для сказки, потому что существует огромная кросс-культурная база Мёрдока[59 - Мёрдок 2004.], описывающая разные культуры по формальным параметрам, и есть указатели сказочных сюжетов, из которых мы знаем, какой вариант сказки кто и когда рассказывал в каждой этнической группе. Но для городской легенды такие исследования сделать пока невозможно – из?за отсутствия соответствующих баз. Но можно пойти другим путем и провести контролируемый эксперимент. Именно это решили сделать психологи из университетов Стэнфорда и Дьюка Крис Белл, Чип Хит и Эмили Стенберг[60 - Heath, Bell, Sternberg 2001.]. Они тоже задались вопросом: почему городские легенды и слухи (а также фейковые новости), которые они называют мемами, так часто становятся успешными среди своих носителей? Авторы исследования считают, что легенды не отражают эмоции людей по поводу «трех С» (crisis, conflict, catastrophe), как это утверждается в рамках интерпретативного подхода, а, наоборот, производят эмоции, причем и положительные и отрицательные. Соответственно, мемы имеют успех, потому что успешно проходят эмоциональный эволюционный отбор. Для доказательства своей «теории эмоционального отбора» Крис Белл и его коллеги провели серию экспериментов, в ходе которых вниманию трех групп испытуемых было предложено три варианта популярной городской легенды о банке с газировкой, в которой некто находит дохлую крысу. Эти три варианта различались по степени отвратительности: если в облегченной версии потребитель обнаруживал крысу по странному запаху из банки, то в наиболее отвратительной версии крыса попадала ему в рот вместе с напитком. Большинство испытуемых выразили готовность распространять именно наиболее отвратительную версию. Данные этого эксперимента были подтверждены анализом сайтов-коллекторов городских легенд: выяснилось, что чем больше «отвратительных мотивов» содержит текст, тем на большем количестве сайтов он оказывается. Спустя тринадцать лет шведские психологи решили проверить эту идею. Их эксперимент с городской легендой подтвердил теорию эмоционального отбора мемов[61 - Eriksson, Coultas 2014.].
Но почему способность пробуждать эмоции оказывается эволюционным преимуществом легенды? Потому что успешные легенды с помощью такого свойства способствуют образованию социальной связи между людьми, которые эти эмоции разделяют. По сути, Крис Белл и коллеги экспериментально подтвердили наличие в обществе «социального клея», о котором писал социолог Эмиль Дюркгейм в начале XX века (правда, Дюркгейм говорил, что таким свойством обладают коллективные ритуалы).
Но возможно, за репостами и пересказами слухов стоят и другие психологические механизмы, не менее важные и не менее древние. В 2017 году исследователи из Массачусетского технологического университета Соруш Возоши, Деб Рой и Синин Арал проанализировали более 126 тысяч цепочек ретвитов («каскадов»), содержащих правдивые новости и фейковые, трех миллионов пользователей за одиннадцать лет наблюдений. Их результаты были ошеломляющими: статья вышла в Science – самом престижном научном журнале. Статистический анализ показал: для того чтобы дойти до 1500 пользователей, настоящим новостям требуется примерно в шесть раз больше времени, чем фейковым. И в двадцать раз быстрее фейковые новости дойдут до десятой по «глубине» цепочки ретвитов. В целом у фейковой новости шанс быть перепощенной на 70 % процентов выше, чем у настоящей. При этом наибольшей скоростью распространения и проникающей способностью обладают фейковые новости на политические темы или связанные с темой катастроф.
Но самый важный (для нас) вывод этого исследования – в другом. Его авторы говорят, что желание перепостить новость связано со стремлением людей к новизне, и это стремление настолько сильно, что с легкостью преодолевает сомнения по поводу «истинности – ложности». Кроме критерия новизны (novelty), на распространение фейковых новостей влияет еще и второй фактор – сила негативных эмоций. Чем сильнее негативные эмоции, которые вызывает фейковая новость (авторы замеряли «силу эмоций» по количеству комментариев, типа «ужас», «отвратительно»), тем больше вероятность, что ее перепостят. Эти результаты прекрасно коррелируют с теорией «эмоционального отбора» Криса Белла (хотя авторы обеих статей не читали друг друга).
Возможно, стремление распространять легенды и фейковые новости – это следствие эволюционного отбора? В ходе эволюции Homo sapiens в обществе растет навык кооперации и внимание к предупреждениям соплеменников об опасности: «Внимание, за тем холмом голодный лев». Эволюционный выигрыш, если ты последовал предупреждению и не был съеден, большой. Однако если это был розыгрыш, ничего особо страшного (кроме разбитой физиономии) не случится. Поэтому люди делятся самыми странными слухами и легендами по принципу: «А вдруг это правда и тогда я, первый предупредивший об опасности, – молодец».
Теория эмоционального отбора и теория важности нового знания предполагают, что распространение слухов и городских легенд есть следствие эмоциональных и когнитивных навыков, приобретенных в ходе эволюционной гонки. Однако мы не должны игнорировать тот факт, что даже при таком взгляде на трансмиссию фольклорных текстов очевидно, что люди распространяют слухи и легенды с разной готовностью. От чего могут зависеть личные предпочтения, когда ты думаешь – репостить или нет такой текст: «Максимальный репост!!! В кустах нашли ребенка с вырезанной почкой…»? Относительно недавно социальные психологи Роланд Имхов и Пиа Каролайн Лэмберти[62 - Imhoff, Lamberty 2017.] провели серию экспериментов, в ходе которых запускали фейковые новости и конспирологические слухи в группы подопытных, а затем отслеживали, кто эти сюжеты распространяет. Исследователи пришли к выводу, что триггером распространения является запрос потенциального рассказчика на «уникальность». Те из подопытных, кто хотел «быть особенным», то есть стремился привлекать всеобщее внимание, но не чувствовал себя достаточно успешным в этом (не писал популярных постов, не мог похвалиться хорошей работой), гораздо активнее распространяли броские тексты, не задумываясь над их истинностью.
На страницах этой книги читатель еще неоднократно встретится с экспериментами когнитивных психологов, которые в течение последних двадцати лет ставили своей задачей понять, как люди распространяют конспирологические тексты (и, соответственно, городские легенды, в которые эта конспирология «завернута», как конфетка в обертку). О них мы будем говорить подробно в главах 2 и 3, а здесь мы бы хотели обратить внимание на крайне важное явление, обнаруженное в экспериментах: можно искусственно (правда, на очень непродолжительное время), за счет снижения чувства контроля, вызвать у людей стремление объяснять случайный набор фактов «теорией заговора»[63 - Galinsky, Whitson 2008.]. Другими словами, когнитивистам удалось воспроизвести ситуацию, благоприятствующую потенциальному распространению слухов и легенд.
Критика меметического подхода
Сторонники меметического подхода уподобляют городские легенды биологическим сущностям и, исходя из этой аналогии, утверждают, что стремление воспроизводить себя является имманентным свойством легенд. «Мем» в меметической теории ведет себя как самостоятельная сущность: им двигает слепое стремление к размножению, а люди, сами того не ведая, являются инструментами этого размножения. Для сторонников меметического подхода не важно, почему та или иная история вообще однажды появляется. Тем более они не стремятся понять, почему это происходит в определенное время и в определенном месте.
Вспомним, как теория «эмоционального отбора» объясняет распространение легенды про кока-колу с крысой внутри. Как и многие другие психологические теории, она неявно предполагает существование некоторой общей «человеческой природы»: люди устроены так, что стремятся распространять истории, вызывающие наиболее сильные эмоции. Между тем представления об отвратительном, то есть набор явлений и ситуаций, вызывающих соответствующую эмоцию, могут сильно меняться от одной культуры к другой. Где-то не вызывает отвращения крысиный хвост, а где-то никого не волнуют банки с газировкой. Даже в рамках одной и той же современной американской культуры в одном контексте оказывается более успешной история о крысе в банке с колой, а в другом – не менее отвратительная история о поваре из этнического ресторана, который добавляет в соус свою зараженную сперму.
Известные исследования в русле меметического подхода базируются, как правило, не на анализе живого распространения, а на анализе, сделанном в условиях лабораторного эксперимента. Когда же мы выходим за пределы лаборатории, то по-прежнему ищем естественные триггеры, которые запускают легенды. В условиях лаборатории этим триггером становится действие экспериментатора, который, например, вызывает у подопытных чувство потери контроля, а вот в реальных условиях выяснение причин существования легенды вне анализа социального контекста невозможно.
Операциональный подход: как воздействует легенда
В 1994 году политическая элита африканской страны Руанды, почти сплошь состоящая из представителей народа хуту, призвала устроить геноцид в отношении тутси – второй основной народности в республике. Масштабы последующей катастрофы были огромны, по разным источникам погибло от полумиллиона до миллиона тутси. В убийствах, избиениях и изнасилованиях участвовали и армия, и вооруженная милиция, но больше всего нападений было совершено гражданскими лицами. Внезапно взяв в руки мачете, мирные крестьяне шли резать соседей или участвовать в «праздниках изнасилования». Спустя двадцать лет экономист Дэвид Янагизава-Дротт решил выяснить[64 - Yanagizawa-Drott 2014.], что повлияло на их поведение так сильно. Руандийский геноцид начался с того, что главная радиостанция начала называть тутси «вредителями», «тараканами» и «убийцами» (поводом для таких обвинений послужил сбитый самолет президента). Призывы к «убийству этих насекомых» поддерживались рассказами о том, как тутси только и ждут удобного момента, чтобы напасть на соседей-хуту, как они отравляют детей хуту и продают их на органы. Однако Руанда – горная страна, и хотя радио – это основный способ распространения новостей, однако далеко не все деревни находятся в зоне приема радиоволн. Янагизава-Дротт сделал карту покрытия руандийских деревень радиоволнами и выделил три категории: деревни, которые очень хорошо принимали радиоволны, деревни, в которых радио не ловилось, но которые находились рядом с теми деревнями, в которых был прием, и деревни, которые находились далеко от любых точек приема радиоволн. Далее он сравнил все три группы с количеством убийств тутси. Ответ был не самым тривиальным. Народное ополчение тех деревень, в которых радиоприемники ловили передачи достаточно хорошо, убивало на 7 % больше, чем в глухомани, однако жители из второй группы деревень (где радиосигнал не принимался, но рядом был большой поселок с радиоточкой) убили гораздо больше людей – на 23 %. Причина этого – в том, что жители снабженных радио деревень, услышав призывы убивать тутси, при общении со своими друзьями и родственниками из соседних поселков передавали им эти новости. Однако они не просто пересказывали государственную пропаганду, а подтверждали ее ссылками на свои страхи и рассказами про то, какие тутси негодяи и воры. Слухи и легенды о страшных врагах, передаваемые в режиме неформальной коммуникации (friend-of-a-friend), усиливали пропаганду, оправдывали нарушение моральных норм и легитимизировали право на насилие.
Такие случаи не единичны. В марте 1994 года разъяренная толпа в гватемальском городе Сан-Кристобаль до полусмерти избивает ни в чем не повинную американскую туристку[65 - Campion-Vincent 2005a: 21–23.]. Летом 2018 года жители небольшого мексиканского города Акатлан сжигают двух мужчин, приехавших за покупками из соседнего города[66 - https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46145986 (дата обращения 23.07.2019).]. Причиной насилия в обоих случаях послужила классическая городская легенда о краже детей на органы (organ theft legend), которая в первом случае распространялась устно и через публикации в местной прессе, а во втором – через WhatsApp.
Городские легенды многим кажутся забавными историями, которые способны вызвать веселый смех на вечеринке или ритуально напугать кого-то во время Хэллоуина. Но, как следует из приведенных выше примеров, они не всегда так невинны. Городские легенды могут быть очень опасными, поскольку в условиях паники очередной пересказ «достоверной» истории может подтолкнуть человека или группу людей к агрессии. Есть большое количество исследователей, которых не очень волнуют вопросы о том, почему возникают истории об отравленных джинсах или какие эволюционные механизмы в поведении человека отвечают за распространение таких историй. Однако для этих исследователей важен вопрос, как слухи и городские легенды воздействуют на социальную реальность и меняют ее. Совокупность работ, изучающих операционные возможности городской легенды в воздействии на действительность, мы назвали «операциональным подходом». Под таким «зонтом» мы объединили два направления исследований. Первое из них – это исследование феномена моральной паники социологами, второе – это открытый фольклористами эффект остенсии. Ниже мы кратко разберем основные находки, сделанные исследователями обоих направлений, и покажем, чем они важны для изучения советских легенд.
Городская легенда как топливо моральной паники
Милая история о том, как старушка в забывчивости засунула своего кота в микроволновку, чтобы высушить его, вряд ли может привести к массовой агрессии. Тогда в какой ситуации городские легенды становятся опасны и почему они провоцируют насилие?
Ответ, который дают социологи, заключается в следующем. Тревога внутри человеческого сообщества – это вещь естественная. Однако иногда, вместо того чтобы искать реальную проблему, которая является причиной этой тревоги, члены сообщества сосредотачиваются на угрозе, якобы исходящей от этнической или социальной группы. Причем эта группа может быть реально существующей (евреи, хиппи) или вымышленной (например, ведьмы, заключающие договор с Люцифером).
Ощущение «врага рядом с нами» провоцирует панику, и на начальных этапах паники в обществе формируется консенсус по поводу источника опасности и серьезности угрозы: «Максимальный репост!!! Группы смерти убивают наших детей». Обнаружение источника опасности, с одной стороны, усиливает тревогу («они среди нас и завтра могут сделать это снова»), но с другой стороны, в перспективе помогает от нее избавиться, поскольку дает возможность действовать («мы знаем, кого нужно уничтожить или изгнать, чтобы снова почувствовать себя в безопасности»), что, в свою очередь, создает иллюзию контроля над ситуацией. Для предупреждения друг друга о новой угрозе члены сообщества активно обмениваются городскими легендами и слухами. Так общество создает новый моральный консенсус по поводу источника опасности, которая грозит обществу. Отсюда и название – моральная паника (moral panic).
Моральная паника не способствует выяснению реальных причин тех или иных социальных проблем. Вместо этого энергия общества направляется на борьбу с девиантом – воображаемым врагом. Например, в российском обществе 2016 года обсуждение трагедии – нескольких подростковых самоубийств – свелось не к поиску реальных причин этого явления, а к борьбе с анонимными интернет-злодеями, будто бы ответственными за все подростковые суициды, происходящие на территории страны, и с интернетом в целом (в частности, звучали призывы «пускать в интернет» по паспорту с четырнадцати лет). C этого началась паника по поводу так называемых «групп смерти» в социальных сетях. При этом попытки родителей и учителей предостеречь детей от этой опасности неизменно приводили к росту интереса школьников к «группам смерти». Моральная паника, таким образом, не только провоцирует агрессию, но и подменяет реальные причины проблем воображаемыми[67 - См. подробнее: Архипова и др. 2017.].
Понятие моральной паники в 1970?х годах впервые было использовано социологом Стивеном Коэном, который изучал страхи английского общества по поводу молодежных группировок модов и рокеров (Mods и Rockers)[68 - Cohen 2011.]. Агентом моральной паники, с точки зрения Коэна, стали британские СМИ – именно они рассказывали обывателям о том, как опасны молодежные субкультуры. После того как теория Коэна получила широкое распространение, вопрос о том, кто является агентом, провоцирующим моральную панику, стал очень важен. Всегда ли это СМИ?
Социологи Эрик Гуд и Найман Бен-Йегуда выделили три типа агентов, которые могут спровоцировать моральную панику[69 - Goode, Ben-Yehuda 1994.]. Первая, «низовая модель» (grassroots model) предполагает, что моральная паника идет «снизу вверх» и возникает спонтанно как ответ на некоторый социальный стресс. Сначала страх перед реальной или воображаемой угрозой находит выражение в легендах и слухах, и только затем в дело вступают медиа, роль которых, по мнению теоретиков «низовой модели», вторична: они «только усиливают пламя, но не зажигают огонь»[70 - Ibid.: 56.]. Уже упоминаемые Бест и Харучи, анализируя панику о лезвиях в яблоках, которые анонимные злодеи раздают на Хэллоуин детям[71 - Best, Horiuchi 1985.], тоже считают ее причиной «низовую» тревогу среди взрослых, разрушение соседского сообщества, рост детской наркомании и другие страхи американского общества 1960–1970?х годов. Эта тревога выражалась в слухах и легендах, которые только потом попали в СМИ и естественным образом усилили ее.
Во второй, элитистской[72 - Hall et al. 1978.] модели (the elite-engineered model) паника является результатом целенаправленных и вполне сознательных действий политической элиты, которая нуждается в создании мнимой «угрозы», как правило, для отвлечения общества от реальных социальных проблем, решение которых может угрожать ее интересам. Успех паники обеспечивается тем, что элита располагает мощными ресурсами в виде ведущих СМИ и государственных институтов. Эта модель исходит из представлений о всемогуществе элит и тотальной манипулируемости аудитории[73 - Goode, Ben-Yehuda 1994: 62.]. Самый известный анализ, сделанный в рамках элитистской модели, – это анализ паники по поводу уличного хулиганства в Англии, его авторы – Стюарт Холл и его коллеги. По их мнению, паника по поводу уличных нападений была инициирована элитой и служила для того, чтобы отвлечь внимание публики от экономической рецессии и общего кризиса британского капитализма. Как сторонники левых политических взглядов, Холл и его коллеги полагают, что капиталистическое государство вообще всегда так делает – защищает свои экономические интересы, отвлекая внимание масс от решения насущных проблем.
В третьей модели (interest group model) паника исходит от «заинтересованных групп», в роли которых выступают различные профессиональные ассоциации, ангажированные журналисты, религиозные группы, общественные движения, образовательные институты и т. п. Распространяя пугающие истории о воображаемой угрозе, активисты заинтересованной группы пытаются привлечь внимание общества к проблеме, в реальность которой они искренне верят. При этом успешное продвижение моральной повестки автоматически влечет за собой повышение символического статуса и материального положения заинтересованной группы. Так, например, латиноамериканские и европейские коммунисты могли искренне верить в реальность слухов и легенд о том, что в США существует тайная преступная организация, похищающая латиноамериканских детей «на органы»[74 - Campion-Vincent 2005b.]. Однако, принимая активное участие в разжигании паники, основанной на этих слухах, коммунисты зарабатывали себе политические очки: их обличения американского капитализма получали, благодаря таким историям, дополнительное обоснование. Поэтому при анализе подобных ситуаций, по мнению Гуда и Бен-Йегуды, ключевым является вопрос qui bono («кому выгодно»).
Гуд и Бен-Йегуда полагают, что «низовая модель» является необходимым условием для возникновения моральной паники, поскольку ни политики, ни медиа, ни общественные активисты не могут сформировать ощущение угрозы там, где его изначально не было. С другой стороны, эти массовые страхи и тревоги обычно остаются довольно неясными и смутными без действий политиков, журналистов и общественных активистов, которые их публично артикулируют. Таким образом, «grassroots обеспечивают топливо для моральной паники, активисты отвечают за ее фокус, интенсивность и направление»[75 - Goode, Ben-Yehuda 1994: 70.], а элиты могут использовать ее в своих интересах.
Теория о трех агентах моральной паники крайне важна для понимания того, как городские легенды влияли на события в России в последние два века. Рассмотрим два случая. В 1830 году в Российскую империю пришла холерная эпидемия, начались холерные бунты, приведшие к гибели большого количества людей. Их триггером стало массовое распространение слухов о том, что официальное объяснение болезни – всего лишь прикрытие: либо власти, врачи, военные хотят убить (например, отравить мышьяком) «лишних» в государстве людей, либо болезнь – дело рук «польских агентов», а иногда и евреев. Городские легенды, рассказывающие об этом, распространялись на уровне grassroots, как сказали бы Бен-Йегуда и Гуд: государство отчаянно боролось с этими слухами. Император Николай I лично приказал сыскать мелкого чиновника, который в своем письме коллеге пересказал страшные петербургские слухи[76 - ГАРФ. Ф. 109. Оп. 6. Д. 499. 8 л.]. За распространение подобных историй следовало серьезное наказание: в этом случае элита боролась с моральной паникой, идущей «снизу», и относительно успешно. Спустя 120 лет, в 1950–1952 годах, в СССР происходит заметный рост антисемитских настроений (более подробно см. об этом на с. 341), приведший, как мы знаем, к «делу врачей» 1953 года. Но еще за год и за два до этого в советской стране рассказываются истории, что евреи добывают кровь из детей для омолаживания[77 - Шапорина 2011: запись в дневнике от 20 июня 1950 года.], отравляют воду в школах и прививают болезни под видом вакцин от туберкулеза[78 - Спецдонесение из Вильнюса, июнь 1952 года. ЛСА. Ф. K-1. 44. 4.], потому что хотят убить «наших детей». Кое-где звучат призывы к расправе и даже начинаются погромы. Моральная паника, идущая от grassroots, никакого одобрения властей не встречала: как мы знаем из спецсообщений КГБ, до 1953 года такие слухи преследовались как антисоветские, а их распространители довольно сурово наказывались. Но все изменилось 13 января 1953 года, когда в главной советской газете «Правда» была напечатана печально известная статья «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей», в которой группу кремлевских врачей, в основном еврейского происхождения, обвинили в том, что они, работая на американскую разведку, неправильным лечением убили члена Политбюро Жданова и умышленно вредили другим высокопоставленным пациентам. Этой статьей элита в лице товарища Сталина возглавила моральную панику. В результате слухи о том, что чьей-то соседке врач-еврей прописал аспирин, внутри которого оказалась проволока, или что где-то детям врач-еврей под видом прививки против туберкулеза сделал «прививку рака», получили поддержку власти, что легитимизировало любые агрессивные действия по отношению к евреям.
Мы видим, что в обоих случаях агентами, изначально распространяющими слухи и легенды, были люди вне институтов, grassroots. Однако во втором случае элита моральную панику возглавила. Статус слухов в этот момент радикально изменился – они превратились в важную информацию, «одобренную сверху» и, соответственно, способную оказывать еще более разрушительное воздействие.
Теория остенсии: как прожить легенду
Одновременно с социологами, изучающими моральные паники, вопросом о воздействии легенды на человека занялись фольклористы Линда Дег, Эндрю Важони и Билл Эллис, которые в 1980?х годах на материале городских легенд разработали концепцию остенсии[79 - Dеgh, Vаzsonyi 1983; Ellis 1989.]. В самом общем смысле термин «остенсия» обозначает ситуацию, когда фольклорный текст влияет на реальное поведение людей. Исследователи выделили несколько форм такого влияния: от истолкования непонятных событий в категориях фольклорного сюжета до попытки воплотить его в жизнь.
Предельной, самой «сильной» формой воздействия фольклора на реальность является «собственно остенсия» (ostension itself): человек рассказывает легенду (или любую другую фольклорную историю) не словами, а действиями, то есть буквально воплощает ее в жизнь. Как правило, такое происходит, когда тот или иной сюжет достаточно долго и интенсивно циркулирует в обществе, причем распространяется не только по каналам устной неформальной коммуникации, но и получает медийную поддержку. Широко известные случаи «собственно остенсии» связаны с легендами и слухами о сатанистах. Когда такие рассказы достигают определенной степени популярности, находятся люди (как правило, это подростки), которые решают сами стать «сатанистами» и воплощают в жизнь те «кровавые ритуалы», о которых рассказывают легенды. Линда Дег и Эндрю Важони в качестве примера такой остенсии приводят действия американских подростков, которые, находясь под сильным впечатлением от историй о легендарном маньяке Чарльзе Мэнсоне, пытались подражать ему и нападали на людей, действуя в точности по его сценарию.
Однако случаи чистой остенсии очень редки. Гораздо чаще мы имеем дело с псевдоостенсией. Под этим термином американские фольклористы понимают ситуацию, когда фольклорный сюжет (точнее, всеобщая вера в его реальность) используется в каких-то корыстных целях, часто для того, чтобы совершить преступление и остаться при этом безнаказанным, свалив вину на воображаемых злодеев, о которых рассказывает легенда. Во время циркуляции в США слухов об анонимных садистах, подкладывающих лезвия и яд в лакомства, которыми на Хэллоуин угощают детей, двое малышей действительно погибли во время праздника. В 1970 году в Детройте пятилетний Кевин Тостон съел конфетку с героином, а в 1974 году в Техасе такая же судьба постигла Тимоти Брайена после конфеты с цианидом[80 - Подробный разбор обоих случаев можно найти здесь: https://www.snopes.com/fact-check/halloween-non-poisonings/ (дата обращения 02.08.2019).]. Однако проведенное расследование в обоих случаях показало, что убийцами были не анонимные злодеи с улицы. Опасность, увы, поджидала детей дома. В одном случае ребенок случайно нашел в доме дяди запасы героина и попробовал его (торговлей занимались то ли дядя, то ли отец мальчика), а семья, желая скрыть факт наркоторговли, спрятала пакетик с героином в яблоке и свалила все на хэллоуиновских злодеев. Второй случай еще более примечателен: мальчика отравил цианидом отец, желая получить страховку (жизнь мальчика была застрахована), а после совершения убийства сообщил, что его ребенок был отравлен теми самыми злодеями, которые отравляют и калечат доверчивых детей каждый Хэллоуин. Как мы видим, в обоих случаях преступления почти удались, потому что вера в анонимных детоубийц была очень сильна, на что преступники и рассчитывали. Другой, современный пример псевдоостенсии: на волне паники в России в 2016–2017 годах по поводу «групп смерти», где некие «кураторы» якобы доводят детей до самоубийства, появились мошенники, которые стали вымогать у младшеклассников деньги, представляясь теми самыми «кураторами».
И тут мы подходим к очень важному логическому повороту в «меметических исследованиях». Если мы не понимаем из содержания легенды, почему носители предпочитают ту или иную версию, не сможем ли мы понять это, проанализировав поведение носителей? Конечно, для проведения таких исследований в реальности требуется всего ничего: нужна либо огромная база данных, где разные культуры описываются по одним и тем же параметрам (так называемая кросс-культурная база), либо лаборатория и эксперимент.
Помните ли вы сказку «Морозко» – о злой мачехе и доброй падчерице, которая известна более чем в девятистах этнических версиях и является самой распространенной волшебной сказкой[57 - Roberts 1994.] (обойдя по этому параметру «Золушку»)? Несколько лет назад один из авторов этих строк вместе с фольклористом Артемом Козьминым задались вопросом – а зависят ли варианты сюжета от какого-нибудь из предпочтений рассказчиков? Выяснилось, что такие параметры есть, но они связаны не с моралью сказки, а с тем, как описывается вознаграждение героини за ее доброту. Для культур, где исповедуются авраамические религии (в первую очередь христианство), с большой вероятностью в качестве награды появится физическая трансформация облика (девушка становится красавицей, сияет, как солнце, у нее волосы, как чистое золото, изо рта падают розы). Наличие в данной культуре религиозного учения о символическом духовном перерождении как жизненной цели заставляет рассказчика акцентировать в сказке именно этот вариант награды – видимо, потому что ему это нравится. Если же этническая группа, у которой записан текст, придерживается более архаических (не авраамических) верований, то физическая трансформация там непопулярна, а рассказчики предпочитают конец истории, где герой получает материальную награду: драгоценности, волшебные предметы или хорошего мужа[58 - Подробнее см.: Архипова, Козьмин 2009.].
Конечно, такие исследования возможно сделать для сказки, потому что существует огромная кросс-культурная база Мёрдока[59 - Мёрдок 2004.], описывающая разные культуры по формальным параметрам, и есть указатели сказочных сюжетов, из которых мы знаем, какой вариант сказки кто и когда рассказывал в каждой этнической группе. Но для городской легенды такие исследования сделать пока невозможно – из?за отсутствия соответствующих баз. Но можно пойти другим путем и провести контролируемый эксперимент. Именно это решили сделать психологи из университетов Стэнфорда и Дьюка Крис Белл, Чип Хит и Эмили Стенберг[60 - Heath, Bell, Sternberg 2001.]. Они тоже задались вопросом: почему городские легенды и слухи (а также фейковые новости), которые они называют мемами, так часто становятся успешными среди своих носителей? Авторы исследования считают, что легенды не отражают эмоции людей по поводу «трех С» (crisis, conflict, catastrophe), как это утверждается в рамках интерпретативного подхода, а, наоборот, производят эмоции, причем и положительные и отрицательные. Соответственно, мемы имеют успех, потому что успешно проходят эмоциональный эволюционный отбор. Для доказательства своей «теории эмоционального отбора» Крис Белл и его коллеги провели серию экспериментов, в ходе которых вниманию трех групп испытуемых было предложено три варианта популярной городской легенды о банке с газировкой, в которой некто находит дохлую крысу. Эти три варианта различались по степени отвратительности: если в облегченной версии потребитель обнаруживал крысу по странному запаху из банки, то в наиболее отвратительной версии крыса попадала ему в рот вместе с напитком. Большинство испытуемых выразили готовность распространять именно наиболее отвратительную версию. Данные этого эксперимента были подтверждены анализом сайтов-коллекторов городских легенд: выяснилось, что чем больше «отвратительных мотивов» содержит текст, тем на большем количестве сайтов он оказывается. Спустя тринадцать лет шведские психологи решили проверить эту идею. Их эксперимент с городской легендой подтвердил теорию эмоционального отбора мемов[61 - Eriksson, Coultas 2014.].
Но почему способность пробуждать эмоции оказывается эволюционным преимуществом легенды? Потому что успешные легенды с помощью такого свойства способствуют образованию социальной связи между людьми, которые эти эмоции разделяют. По сути, Крис Белл и коллеги экспериментально подтвердили наличие в обществе «социального клея», о котором писал социолог Эмиль Дюркгейм в начале XX века (правда, Дюркгейм говорил, что таким свойством обладают коллективные ритуалы).
Но возможно, за репостами и пересказами слухов стоят и другие психологические механизмы, не менее важные и не менее древние. В 2017 году исследователи из Массачусетского технологического университета Соруш Возоши, Деб Рой и Синин Арал проанализировали более 126 тысяч цепочек ретвитов («каскадов»), содержащих правдивые новости и фейковые, трех миллионов пользователей за одиннадцать лет наблюдений. Их результаты были ошеломляющими: статья вышла в Science – самом престижном научном журнале. Статистический анализ показал: для того чтобы дойти до 1500 пользователей, настоящим новостям требуется примерно в шесть раз больше времени, чем фейковым. И в двадцать раз быстрее фейковые новости дойдут до десятой по «глубине» цепочки ретвитов. В целом у фейковой новости шанс быть перепощенной на 70 % процентов выше, чем у настоящей. При этом наибольшей скоростью распространения и проникающей способностью обладают фейковые новости на политические темы или связанные с темой катастроф.
Но самый важный (для нас) вывод этого исследования – в другом. Его авторы говорят, что желание перепостить новость связано со стремлением людей к новизне, и это стремление настолько сильно, что с легкостью преодолевает сомнения по поводу «истинности – ложности». Кроме критерия новизны (novelty), на распространение фейковых новостей влияет еще и второй фактор – сила негативных эмоций. Чем сильнее негативные эмоции, которые вызывает фейковая новость (авторы замеряли «силу эмоций» по количеству комментариев, типа «ужас», «отвратительно»), тем больше вероятность, что ее перепостят. Эти результаты прекрасно коррелируют с теорией «эмоционального отбора» Криса Белла (хотя авторы обеих статей не читали друг друга).
Возможно, стремление распространять легенды и фейковые новости – это следствие эволюционного отбора? В ходе эволюции Homo sapiens в обществе растет навык кооперации и внимание к предупреждениям соплеменников об опасности: «Внимание, за тем холмом голодный лев». Эволюционный выигрыш, если ты последовал предупреждению и не был съеден, большой. Однако если это был розыгрыш, ничего особо страшного (кроме разбитой физиономии) не случится. Поэтому люди делятся самыми странными слухами и легендами по принципу: «А вдруг это правда и тогда я, первый предупредивший об опасности, – молодец».
Теория эмоционального отбора и теория важности нового знания предполагают, что распространение слухов и городских легенд есть следствие эмоциональных и когнитивных навыков, приобретенных в ходе эволюционной гонки. Однако мы не должны игнорировать тот факт, что даже при таком взгляде на трансмиссию фольклорных текстов очевидно, что люди распространяют слухи и легенды с разной готовностью. От чего могут зависеть личные предпочтения, когда ты думаешь – репостить или нет такой текст: «Максимальный репост!!! В кустах нашли ребенка с вырезанной почкой…»? Относительно недавно социальные психологи Роланд Имхов и Пиа Каролайн Лэмберти[62 - Imhoff, Lamberty 2017.] провели серию экспериментов, в ходе которых запускали фейковые новости и конспирологические слухи в группы подопытных, а затем отслеживали, кто эти сюжеты распространяет. Исследователи пришли к выводу, что триггером распространения является запрос потенциального рассказчика на «уникальность». Те из подопытных, кто хотел «быть особенным», то есть стремился привлекать всеобщее внимание, но не чувствовал себя достаточно успешным в этом (не писал популярных постов, не мог похвалиться хорошей работой), гораздо активнее распространяли броские тексты, не задумываясь над их истинностью.
На страницах этой книги читатель еще неоднократно встретится с экспериментами когнитивных психологов, которые в течение последних двадцати лет ставили своей задачей понять, как люди распространяют конспирологические тексты (и, соответственно, городские легенды, в которые эта конспирология «завернута», как конфетка в обертку). О них мы будем говорить подробно в главах 2 и 3, а здесь мы бы хотели обратить внимание на крайне важное явление, обнаруженное в экспериментах: можно искусственно (правда, на очень непродолжительное время), за счет снижения чувства контроля, вызвать у людей стремление объяснять случайный набор фактов «теорией заговора»[63 - Galinsky, Whitson 2008.]. Другими словами, когнитивистам удалось воспроизвести ситуацию, благоприятствующую потенциальному распространению слухов и легенд.
Критика меметического подхода
Сторонники меметического подхода уподобляют городские легенды биологическим сущностям и, исходя из этой аналогии, утверждают, что стремление воспроизводить себя является имманентным свойством легенд. «Мем» в меметической теории ведет себя как самостоятельная сущность: им двигает слепое стремление к размножению, а люди, сами того не ведая, являются инструментами этого размножения. Для сторонников меметического подхода не важно, почему та или иная история вообще однажды появляется. Тем более они не стремятся понять, почему это происходит в определенное время и в определенном месте.
Вспомним, как теория «эмоционального отбора» объясняет распространение легенды про кока-колу с крысой внутри. Как и многие другие психологические теории, она неявно предполагает существование некоторой общей «человеческой природы»: люди устроены так, что стремятся распространять истории, вызывающие наиболее сильные эмоции. Между тем представления об отвратительном, то есть набор явлений и ситуаций, вызывающих соответствующую эмоцию, могут сильно меняться от одной культуры к другой. Где-то не вызывает отвращения крысиный хвост, а где-то никого не волнуют банки с газировкой. Даже в рамках одной и той же современной американской культуры в одном контексте оказывается более успешной история о крысе в банке с колой, а в другом – не менее отвратительная история о поваре из этнического ресторана, который добавляет в соус свою зараженную сперму.
Известные исследования в русле меметического подхода базируются, как правило, не на анализе живого распространения, а на анализе, сделанном в условиях лабораторного эксперимента. Когда же мы выходим за пределы лаборатории, то по-прежнему ищем естественные триггеры, которые запускают легенды. В условиях лаборатории этим триггером становится действие экспериментатора, который, например, вызывает у подопытных чувство потери контроля, а вот в реальных условиях выяснение причин существования легенды вне анализа социального контекста невозможно.
Операциональный подход: как воздействует легенда
В 1994 году политическая элита африканской страны Руанды, почти сплошь состоящая из представителей народа хуту, призвала устроить геноцид в отношении тутси – второй основной народности в республике. Масштабы последующей катастрофы были огромны, по разным источникам погибло от полумиллиона до миллиона тутси. В убийствах, избиениях и изнасилованиях участвовали и армия, и вооруженная милиция, но больше всего нападений было совершено гражданскими лицами. Внезапно взяв в руки мачете, мирные крестьяне шли резать соседей или участвовать в «праздниках изнасилования». Спустя двадцать лет экономист Дэвид Янагизава-Дротт решил выяснить[64 - Yanagizawa-Drott 2014.], что повлияло на их поведение так сильно. Руандийский геноцид начался с того, что главная радиостанция начала называть тутси «вредителями», «тараканами» и «убийцами» (поводом для таких обвинений послужил сбитый самолет президента). Призывы к «убийству этих насекомых» поддерживались рассказами о том, как тутси только и ждут удобного момента, чтобы напасть на соседей-хуту, как они отравляют детей хуту и продают их на органы. Однако Руанда – горная страна, и хотя радио – это основный способ распространения новостей, однако далеко не все деревни находятся в зоне приема радиоволн. Янагизава-Дротт сделал карту покрытия руандийских деревень радиоволнами и выделил три категории: деревни, которые очень хорошо принимали радиоволны, деревни, в которых радио не ловилось, но которые находились рядом с теми деревнями, в которых был прием, и деревни, которые находились далеко от любых точек приема радиоволн. Далее он сравнил все три группы с количеством убийств тутси. Ответ был не самым тривиальным. Народное ополчение тех деревень, в которых радиоприемники ловили передачи достаточно хорошо, убивало на 7 % больше, чем в глухомани, однако жители из второй группы деревень (где радиосигнал не принимался, но рядом был большой поселок с радиоточкой) убили гораздо больше людей – на 23 %. Причина этого – в том, что жители снабженных радио деревень, услышав призывы убивать тутси, при общении со своими друзьями и родственниками из соседних поселков передавали им эти новости. Однако они не просто пересказывали государственную пропаганду, а подтверждали ее ссылками на свои страхи и рассказами про то, какие тутси негодяи и воры. Слухи и легенды о страшных врагах, передаваемые в режиме неформальной коммуникации (friend-of-a-friend), усиливали пропаганду, оправдывали нарушение моральных норм и легитимизировали право на насилие.
Такие случаи не единичны. В марте 1994 года разъяренная толпа в гватемальском городе Сан-Кристобаль до полусмерти избивает ни в чем не повинную американскую туристку[65 - Campion-Vincent 2005a: 21–23.]. Летом 2018 года жители небольшого мексиканского города Акатлан сжигают двух мужчин, приехавших за покупками из соседнего города[66 - https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46145986 (дата обращения 23.07.2019).]. Причиной насилия в обоих случаях послужила классическая городская легенда о краже детей на органы (organ theft legend), которая в первом случае распространялась устно и через публикации в местной прессе, а во втором – через WhatsApp.
Городские легенды многим кажутся забавными историями, которые способны вызвать веселый смех на вечеринке или ритуально напугать кого-то во время Хэллоуина. Но, как следует из приведенных выше примеров, они не всегда так невинны. Городские легенды могут быть очень опасными, поскольку в условиях паники очередной пересказ «достоверной» истории может подтолкнуть человека или группу людей к агрессии. Есть большое количество исследователей, которых не очень волнуют вопросы о том, почему возникают истории об отравленных джинсах или какие эволюционные механизмы в поведении человека отвечают за распространение таких историй. Однако для этих исследователей важен вопрос, как слухи и городские легенды воздействуют на социальную реальность и меняют ее. Совокупность работ, изучающих операционные возможности городской легенды в воздействии на действительность, мы назвали «операциональным подходом». Под таким «зонтом» мы объединили два направления исследований. Первое из них – это исследование феномена моральной паники социологами, второе – это открытый фольклористами эффект остенсии. Ниже мы кратко разберем основные находки, сделанные исследователями обоих направлений, и покажем, чем они важны для изучения советских легенд.
Городская легенда как топливо моральной паники
Милая история о том, как старушка в забывчивости засунула своего кота в микроволновку, чтобы высушить его, вряд ли может привести к массовой агрессии. Тогда в какой ситуации городские легенды становятся опасны и почему они провоцируют насилие?
Ответ, который дают социологи, заключается в следующем. Тревога внутри человеческого сообщества – это вещь естественная. Однако иногда, вместо того чтобы искать реальную проблему, которая является причиной этой тревоги, члены сообщества сосредотачиваются на угрозе, якобы исходящей от этнической или социальной группы. Причем эта группа может быть реально существующей (евреи, хиппи) или вымышленной (например, ведьмы, заключающие договор с Люцифером).
Ощущение «врага рядом с нами» провоцирует панику, и на начальных этапах паники в обществе формируется консенсус по поводу источника опасности и серьезности угрозы: «Максимальный репост!!! Группы смерти убивают наших детей». Обнаружение источника опасности, с одной стороны, усиливает тревогу («они среди нас и завтра могут сделать это снова»), но с другой стороны, в перспективе помогает от нее избавиться, поскольку дает возможность действовать («мы знаем, кого нужно уничтожить или изгнать, чтобы снова почувствовать себя в безопасности»), что, в свою очередь, создает иллюзию контроля над ситуацией. Для предупреждения друг друга о новой угрозе члены сообщества активно обмениваются городскими легендами и слухами. Так общество создает новый моральный консенсус по поводу источника опасности, которая грозит обществу. Отсюда и название – моральная паника (moral panic).
Моральная паника не способствует выяснению реальных причин тех или иных социальных проблем. Вместо этого энергия общества направляется на борьбу с девиантом – воображаемым врагом. Например, в российском обществе 2016 года обсуждение трагедии – нескольких подростковых самоубийств – свелось не к поиску реальных причин этого явления, а к борьбе с анонимными интернет-злодеями, будто бы ответственными за все подростковые суициды, происходящие на территории страны, и с интернетом в целом (в частности, звучали призывы «пускать в интернет» по паспорту с четырнадцати лет). C этого началась паника по поводу так называемых «групп смерти» в социальных сетях. При этом попытки родителей и учителей предостеречь детей от этой опасности неизменно приводили к росту интереса школьников к «группам смерти». Моральная паника, таким образом, не только провоцирует агрессию, но и подменяет реальные причины проблем воображаемыми[67 - См. подробнее: Архипова и др. 2017.].
Понятие моральной паники в 1970?х годах впервые было использовано социологом Стивеном Коэном, который изучал страхи английского общества по поводу молодежных группировок модов и рокеров (Mods и Rockers)[68 - Cohen 2011.]. Агентом моральной паники, с точки зрения Коэна, стали британские СМИ – именно они рассказывали обывателям о том, как опасны молодежные субкультуры. После того как теория Коэна получила широкое распространение, вопрос о том, кто является агентом, провоцирующим моральную панику, стал очень важен. Всегда ли это СМИ?
Социологи Эрик Гуд и Найман Бен-Йегуда выделили три типа агентов, которые могут спровоцировать моральную панику[69 - Goode, Ben-Yehuda 1994.]. Первая, «низовая модель» (grassroots model) предполагает, что моральная паника идет «снизу вверх» и возникает спонтанно как ответ на некоторый социальный стресс. Сначала страх перед реальной или воображаемой угрозой находит выражение в легендах и слухах, и только затем в дело вступают медиа, роль которых, по мнению теоретиков «низовой модели», вторична: они «только усиливают пламя, но не зажигают огонь»[70 - Ibid.: 56.]. Уже упоминаемые Бест и Харучи, анализируя панику о лезвиях в яблоках, которые анонимные злодеи раздают на Хэллоуин детям[71 - Best, Horiuchi 1985.], тоже считают ее причиной «низовую» тревогу среди взрослых, разрушение соседского сообщества, рост детской наркомании и другие страхи американского общества 1960–1970?х годов. Эта тревога выражалась в слухах и легендах, которые только потом попали в СМИ и естественным образом усилили ее.
Во второй, элитистской[72 - Hall et al. 1978.] модели (the elite-engineered model) паника является результатом целенаправленных и вполне сознательных действий политической элиты, которая нуждается в создании мнимой «угрозы», как правило, для отвлечения общества от реальных социальных проблем, решение которых может угрожать ее интересам. Успех паники обеспечивается тем, что элита располагает мощными ресурсами в виде ведущих СМИ и государственных институтов. Эта модель исходит из представлений о всемогуществе элит и тотальной манипулируемости аудитории[73 - Goode, Ben-Yehuda 1994: 62.]. Самый известный анализ, сделанный в рамках элитистской модели, – это анализ паники по поводу уличного хулиганства в Англии, его авторы – Стюарт Холл и его коллеги. По их мнению, паника по поводу уличных нападений была инициирована элитой и служила для того, чтобы отвлечь внимание публики от экономической рецессии и общего кризиса британского капитализма. Как сторонники левых политических взглядов, Холл и его коллеги полагают, что капиталистическое государство вообще всегда так делает – защищает свои экономические интересы, отвлекая внимание масс от решения насущных проблем.
В третьей модели (interest group model) паника исходит от «заинтересованных групп», в роли которых выступают различные профессиональные ассоциации, ангажированные журналисты, религиозные группы, общественные движения, образовательные институты и т. п. Распространяя пугающие истории о воображаемой угрозе, активисты заинтересованной группы пытаются привлечь внимание общества к проблеме, в реальность которой они искренне верят. При этом успешное продвижение моральной повестки автоматически влечет за собой повышение символического статуса и материального положения заинтересованной группы. Так, например, латиноамериканские и европейские коммунисты могли искренне верить в реальность слухов и легенд о том, что в США существует тайная преступная организация, похищающая латиноамериканских детей «на органы»[74 - Campion-Vincent 2005b.]. Однако, принимая активное участие в разжигании паники, основанной на этих слухах, коммунисты зарабатывали себе политические очки: их обличения американского капитализма получали, благодаря таким историям, дополнительное обоснование. Поэтому при анализе подобных ситуаций, по мнению Гуда и Бен-Йегуды, ключевым является вопрос qui bono («кому выгодно»).
Гуд и Бен-Йегуда полагают, что «низовая модель» является необходимым условием для возникновения моральной паники, поскольку ни политики, ни медиа, ни общественные активисты не могут сформировать ощущение угрозы там, где его изначально не было. С другой стороны, эти массовые страхи и тревоги обычно остаются довольно неясными и смутными без действий политиков, журналистов и общественных активистов, которые их публично артикулируют. Таким образом, «grassroots обеспечивают топливо для моральной паники, активисты отвечают за ее фокус, интенсивность и направление»[75 - Goode, Ben-Yehuda 1994: 70.], а элиты могут использовать ее в своих интересах.
Теория о трех агентах моральной паники крайне важна для понимания того, как городские легенды влияли на события в России в последние два века. Рассмотрим два случая. В 1830 году в Российскую империю пришла холерная эпидемия, начались холерные бунты, приведшие к гибели большого количества людей. Их триггером стало массовое распространение слухов о том, что официальное объяснение болезни – всего лишь прикрытие: либо власти, врачи, военные хотят убить (например, отравить мышьяком) «лишних» в государстве людей, либо болезнь – дело рук «польских агентов», а иногда и евреев. Городские легенды, рассказывающие об этом, распространялись на уровне grassroots, как сказали бы Бен-Йегуда и Гуд: государство отчаянно боролось с этими слухами. Император Николай I лично приказал сыскать мелкого чиновника, который в своем письме коллеге пересказал страшные петербургские слухи[76 - ГАРФ. Ф. 109. Оп. 6. Д. 499. 8 л.]. За распространение подобных историй следовало серьезное наказание: в этом случае элита боролась с моральной паникой, идущей «снизу», и относительно успешно. Спустя 120 лет, в 1950–1952 годах, в СССР происходит заметный рост антисемитских настроений (более подробно см. об этом на с. 341), приведший, как мы знаем, к «делу врачей» 1953 года. Но еще за год и за два до этого в советской стране рассказываются истории, что евреи добывают кровь из детей для омолаживания[77 - Шапорина 2011: запись в дневнике от 20 июня 1950 года.], отравляют воду в школах и прививают болезни под видом вакцин от туберкулеза[78 - Спецдонесение из Вильнюса, июнь 1952 года. ЛСА. Ф. K-1. 44. 4.], потому что хотят убить «наших детей». Кое-где звучат призывы к расправе и даже начинаются погромы. Моральная паника, идущая от grassroots, никакого одобрения властей не встречала: как мы знаем из спецсообщений КГБ, до 1953 года такие слухи преследовались как антисоветские, а их распространители довольно сурово наказывались. Но все изменилось 13 января 1953 года, когда в главной советской газете «Правда» была напечатана печально известная статья «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей», в которой группу кремлевских врачей, в основном еврейского происхождения, обвинили в том, что они, работая на американскую разведку, неправильным лечением убили члена Политбюро Жданова и умышленно вредили другим высокопоставленным пациентам. Этой статьей элита в лице товарища Сталина возглавила моральную панику. В результате слухи о том, что чьей-то соседке врач-еврей прописал аспирин, внутри которого оказалась проволока, или что где-то детям врач-еврей под видом прививки против туберкулеза сделал «прививку рака», получили поддержку власти, что легитимизировало любые агрессивные действия по отношению к евреям.
Мы видим, что в обоих случаях агентами, изначально распространяющими слухи и легенды, были люди вне институтов, grassroots. Однако во втором случае элита моральную панику возглавила. Статус слухов в этот момент радикально изменился – они превратились в важную информацию, «одобренную сверху» и, соответственно, способную оказывать еще более разрушительное воздействие.
Теория остенсии: как прожить легенду
Одновременно с социологами, изучающими моральные паники, вопросом о воздействии легенды на человека занялись фольклористы Линда Дег, Эндрю Важони и Билл Эллис, которые в 1980?х годах на материале городских легенд разработали концепцию остенсии[79 - Dеgh, Vаzsonyi 1983; Ellis 1989.]. В самом общем смысле термин «остенсия» обозначает ситуацию, когда фольклорный текст влияет на реальное поведение людей. Исследователи выделили несколько форм такого влияния: от истолкования непонятных событий в категориях фольклорного сюжета до попытки воплотить его в жизнь.
Предельной, самой «сильной» формой воздействия фольклора на реальность является «собственно остенсия» (ostension itself): человек рассказывает легенду (или любую другую фольклорную историю) не словами, а действиями, то есть буквально воплощает ее в жизнь. Как правило, такое происходит, когда тот или иной сюжет достаточно долго и интенсивно циркулирует в обществе, причем распространяется не только по каналам устной неформальной коммуникации, но и получает медийную поддержку. Широко известные случаи «собственно остенсии» связаны с легендами и слухами о сатанистах. Когда такие рассказы достигают определенной степени популярности, находятся люди (как правило, это подростки), которые решают сами стать «сатанистами» и воплощают в жизнь те «кровавые ритуалы», о которых рассказывают легенды. Линда Дег и Эндрю Важони в качестве примера такой остенсии приводят действия американских подростков, которые, находясь под сильным впечатлением от историй о легендарном маньяке Чарльзе Мэнсоне, пытались подражать ему и нападали на людей, действуя в точности по его сценарию.
Однако случаи чистой остенсии очень редки. Гораздо чаще мы имеем дело с псевдоостенсией. Под этим термином американские фольклористы понимают ситуацию, когда фольклорный сюжет (точнее, всеобщая вера в его реальность) используется в каких-то корыстных целях, часто для того, чтобы совершить преступление и остаться при этом безнаказанным, свалив вину на воображаемых злодеев, о которых рассказывает легенда. Во время циркуляции в США слухов об анонимных садистах, подкладывающих лезвия и яд в лакомства, которыми на Хэллоуин угощают детей, двое малышей действительно погибли во время праздника. В 1970 году в Детройте пятилетний Кевин Тостон съел конфетку с героином, а в 1974 году в Техасе такая же судьба постигла Тимоти Брайена после конфеты с цианидом[80 - Подробный разбор обоих случаев можно найти здесь: https://www.snopes.com/fact-check/halloween-non-poisonings/ (дата обращения 02.08.2019).]. Однако проведенное расследование в обоих случаях показало, что убийцами были не анонимные злодеи с улицы. Опасность, увы, поджидала детей дома. В одном случае ребенок случайно нашел в доме дяди запасы героина и попробовал его (торговлей занимались то ли дядя, то ли отец мальчика), а семья, желая скрыть факт наркоторговли, спрятала пакетик с героином в яблоке и свалила все на хэллоуиновских злодеев. Второй случай еще более примечателен: мальчика отравил цианидом отец, желая получить страховку (жизнь мальчика была застрахована), а после совершения убийства сообщил, что его ребенок был отравлен теми самыми злодеями, которые отравляют и калечат доверчивых детей каждый Хэллоуин. Как мы видим, в обоих случаях преступления почти удались, потому что вера в анонимных детоубийц была очень сильна, на что преступники и рассчитывали. Другой, современный пример псевдоостенсии: на волне паники в России в 2016–2017 годах по поводу «групп смерти», где некие «кураторы» якобы доводят детей до самоубийства, появились мошенники, которые стали вымогать у младшеклассников деньги, представляясь теми самыми «кураторами».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: