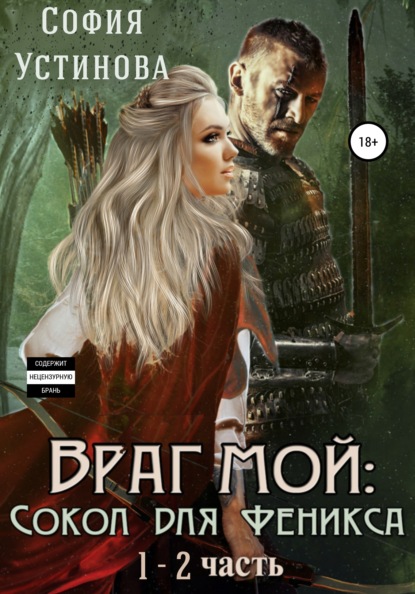По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Враг мой: Сокол для Феникса
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Батюшка часто прощал мелкие проказы, больше для виду грозя пальцем, а иногда делая вид, что сердит:
– Любушка, – выговаривал громовым голосом, – ты же дочь князя, а не челядины! – а в глазах любовь лучилась, что не скрыть никаким гневом. И тут же старой кормилице: – Авдотья! Как же так?! Княжна, а растрёпанная и чумазая?.. Ежели не по силам с ребёнком управиться, то кой от вас прок?
– Княже, – тотчас принималась хлюпать носом Авдотья, да краем головного платка слёзы утирать с пухлого лица, – разве ж за ней угонишься? Почище сорванца какого!– досадливо головой качала. – Чуть свет – уже на улице! То коня ей подавай! То меч! А он, поди, тяжёлый и острый… А она, – задыхалась от негодования кормилица, – тянет, и всё тут! А ежели на ногу уронит, то дружинника задирает. Ремня бы ей хорошего!.. А то ведь – ни в чем отказа не знает! Балуете вы её, балуете! – не переставая причитать. – Что ж ждать-то ещё?! – бабскими слезами заливаясь. – Без матери воспитывается, сиротинкой растёт и никто ей не указ!.. И примера с сестры брать не желает!
Князь хмурил кустистые брови, растерянно чесал затылок, соглашаясь, что женской руки недоставало младшей дочери, и ничего лучше не придумывал, как усадить Любаву за пяльцы.
Сущее наказание!
Самое что ни на есть!
Ничего страшнее не знавала Любава.
Сидеть, как приколоченная, таращиться на ткань.
То в нитках, запутаешься! То с иглами сражаешься. Они вредные! Либо застревают, либо выскальзывают из пальцев, либо не туда попадают, либо нитку не хотят в дырку пускать. У-у-у-у!!!
Порой казалось, лучше бы розгами отходили – потерпела чуток, и свободна! А тут целый день от скуки умираешь! Над вышивкой пыхти, слушай сплетни боярынь и с тоской поглядывай на пробегающую под окнами счастливую детвору.
Не то чтобы Любава была неучем и неумехой. Она добросовестно училась вышивать, прясть, да шить, о чём говорили ее пальчики, исколотые иголкой. Только усидчивости в столь тонком и нудном деле непоседе и сорвиголове не хватало. Стежки получались кривыми и безалаберными, нитки переплетались, рисунок превращался в нечто уродливое и непонятное.
Вторая няня, Глафира, часто вздыхала и качала головой:
– Как же можно быть такой криворукой? Боги её берегите! Кому ж достанется такая плохая хозяйка? Кто возьмёт-то…
Но Любава не расстраивалась. Ведь в этом мире столько интересных вещей, помимо вышивания, шитья и штопки.
– Нянь, – поджимала губы от досады, когда очередной отрез был загублен нерадивым узором княжны, – да кому нужно это шитьё?
– Ба, – всплескивала руками Глафира, вытаращиваясь на подопечную, словно кикимору увидала. – Мужу!
– Замуж??? – тотчас хохотала Любава. – Э-э-э, эт когда ещё! – отмахивалась небрежно. – К тому времени я научусь не только строить прислугу, да вести хозяйство. Я и петь научусь, и танцевать, и ещё много-много чего!
Особенно княжне хотелось научиться играть или на свирели или на гуслях. Жаль, что это было сугубо мужское дело. И даже наберись она наглости и овладей таким умением – её тонкая игра точно была бы осуждена не только семьей, но и всем миром.
10 лет назад
Любава Добродская
Любава тяжко вздохнула и, подперев голову рукой, с тоской уставилась в окно. Крестьянская детвора вовсю играла в лапту, веселясь и радуясь каждому точному удару. А ей приходилось сидеть в тереме, отбывая очередное наказание и умирать от скуки.
Вот же непруха!!!
Княжна засмотрелась на высокого стройного отрока – сына кузнеца. Он как раз помахивал битой, готовясь отразить бросок.
Подающий подбросил войлочной мяч, и Иванко, закусив губу, попал точно по нему.
Раздались восторженные крики. Иванко отбросил биту и скрылся с глаз, помчавшись через весь двор, к противоположному краю поля.
Любава снова горестно вздохнула.
В команде с Иванко играть хотели все. Он был лучшим игроком. Для своего возраста, – а он уже находился в середине возраста отрока, – Иванко был сильным, высоким, ловким. Увлекал своими идеями, заряжал уверенностью в том, что всё получится.
Младшая княжна любовалась им издали. Хотя бы так! Каким бы он ни был красавцем и героем… девичьих грёз, он, прежде всего, сын кузнеца! Да и старше её на четыре весны!!! А стало быть, никогда не обратит внимания на семилетку, с вечно сбитыми коленками, поцарапанными руками и растрёпанными волосами.
– Я же девочка, – досадливо пробурчала Любава, напоминая себе горькую истину. Смиренно склонилась над вышивкой и погрузилась в мечты о том, как Иванко когда-нибудь пригласит её на свидание.
Ах-аха! Как Казимир Всеволодович её страшную сестру, которая, глупо полагала, что Любава спит. Но младшая бдила. Ещё бы, как уснуть, когда под окнами кто-то шебуршит и шепчет? А когда прислушалась, оказалось, Казимир – небогатый княжич каких-то дальних земель. Он как увидал Мирославу, так голову от любви и потерял. Сестра из себя неприступность строила, младшей про воспитание оскомину уже набила, а сама по ночам вылезала в окно, и нежилась в крепких объятиях захудалого княжича.
И ладно бы, он женихом её значился, так нет… Он даже с батюшкой словом не перемолвился насчёт свадьбы!
И то, Любава знать знала, слышать слышала о тайных встречах, да никому не выдавала секрета.
Любовь!..
Этому чувству завидовала и мечтала когда-нибудь точно так же, как сестра… без оглядки влюбиться в своего «Казимира»! Только пусть он будет «Иванко!»
Всё же – старый он… Казимир Всеволодович. И страшный… И что сестра в нём нашла? Эх, глупая.
Хотя Мирославе уже пятнадцать минуло, а это уже ого-го – сколько для девицы на выданье. Того и глядишь, старой девой останется! Так что, кто его ведал, какого это быть почти старой. Поди, в такой дремучести и не на такую страхолюдину, как Казимир Всеволодович поведёшься.
Ему подавно больше. Сколько точно – не сказать, но взгляд тёмных глаз, единожды брошенный в её сторону, запомнила надолго. Столько в нём было презрения, превосходства и ненависти!..
Мира же влюбилась в Казимира сразу, как только встретила на празднике Спожинки. В этот год он был особенно многолюден, покуда до княжества Святояра добрались княжичи с других земель и женихи с ближайших.
Увидала и заболела им.
И пока народ дожинки, обжимки отмечал, Велесу хвалу пел, почитая Его как Отца божьего, за то, что учил праотцов землю пахать, злаки сеять, жать венки на полях страдных и ставить снопы в жилище, – старшая княжна не спускала глаз с высокого незнакомца. Он со скучающим видом сидел поодаль от князя Святояра, да по сторонам поглядывал, думая о чём-то своём.
– Что, по нраву пришёлся? – боярышня Зрослава наклонилась к сестре так близко, что Любава едва слышала, о чём шепчутся. – Вдовец, кстати, – многозначительно. А Мира тотчас разулыбалась, словно он ей уже предложение удачное сделал.
– Хочешь, – продолжала ворковать боярыня, – попрошу князя вас познакомить? Казимир Всеволодович с вашим батюшкой хорошо знакомы.
– Казимир, – точно попробовала на вкус диковинное имя старшая сестра. В глазах таинственный блеск заиграл, румянец на щеках выступил. Любава непонимающе глянула на старика худосочного, опять на Миру и чуть не завопила от недоумения: «Что ты в нём нашла?»
Но благоразумно язык придержала, когда старшая на вопрос боярыни кивнула, пуще прежнего краской заливаясь.
Про Мирославу и так уже поговаривали, что в девках засиделась. Ещё чуть-чуть и «брачок» наружу выплывет. Не то чтобы не было желающих. Приезжали княжичи, да богатые купцы, бояре с разных земель, как только старшей едва двенадцать минуло. Ликом – вышла, статью – не подкачала, нравом – отличалась покладистым.
Но батюшка не спешил расставаться с дочерью, объясняя, что самого лучшего ей желает. На деле он больше за себя переживал. За княжество, земли…
Плохо, некрасиво с его стороны, но князь Святояр не хотел прощаться с главной помощницей. В хозяйстве она уже давно жену заменила и в воспитании младшей сестры помогала…
Потому Любава и рассудила, может счастье сестре будет с этим Казимиром. Батюшка даст благословение…
Мирослава Добродская
Наутро Мирослава стояла перед отцом, опустив глаза, и ужас заполнял её существо. Она так ждала сватов от Казимира, и чуть не упала, когда услышала: