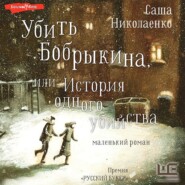По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Убить Бобрыкина, или История одного убийства
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тьфу!.. – еще раз повторила мать и снова в комнату ушла.
«Бес вверх плюет, а ангел к низу», – подумал он и, вытянув веревку с антресолей, слез, убрал стремянку и в комнату свою пошел, на ключ закрылся, положил веревку на кровать, сел сверху, дальше думать стал. «Не будет Бобрыкин ненавистный стоять и ждать, пока я задушу его веревкой, – думал Шишин дальше, – он меня сильнее. Вырвет веревку и надает по шее, как в прошлый раз…» Шишин уже не в первый раз пытался задушить Бобрыкина веревкой, но все не выходило: то Бобрыкин ненавистный не оказывался дома, если Шишин заходил душить его, то дома были Оленька с Танюшей, а при них душить Бобрыкина неловко становилось, а то вдруг, разглядев в руках у Шишина веревку, Бобрыкин отбирал ее, и приходилось Шишину идти за новой, в хозяйственный через дорогу или в другой хозяйственный, что тоже, как назло, через дорогу был.
Иногда, увидев нетерпеливо переступавшего под дверью Шишина с веревкой, Бобрыкин злился и мог крепко оттрепать за уши или брал нос Шишина в щепотку и больно крутил его, пока у Шишина в глазах не солонело.
Однажды Шишин вцепился в новую веревку и не хотел отдать Бобрыкину ее, и тот за это с лестницы спустил его, пообещав, что в следующий раз задушит Шишина и без веревки, голыми руками. «Мешок со сменкой, сволочь, на лампу в раздевалке вешал, – думал Шишин, – знал, что не достану, а буду прыгать, всех просить, чтоб сняли, а никто не снимет, а будут только гоготать, руками тыкать… Не люблю, когда руками и гогочут», – думал он.
«Ищите дурака другого гоготать и тыкать», – думал. Он любил, чтобы другого дурака искали тыкать, гоготать. Другого, не его. «В собачку еще мешком моим играли на переменке, в футбол в спортивном зале», – думал Шишин, сидя на веревке сверху, и делался мрачнее. «Танюша видела, как все мешком играли, моим мешком играли, не смеялась, одна из них из всех, из них из всех одна. А я смеялся, чтобы думали, что я смеюсь», – подумал он.
«От Танюши земляничным мылом пахнет…» – вспомнил Шишин и в ванную хотел пойти, понюхать мыло, но вовремя сообразил, что мать, пока он в ванной будет нюхать мыло, может в комнату зайти. «Найдет веревку и отнимет», – подумал Шишин и мыло нюхать в ванну не пошел.
В третьем классе повесил Шишина Бобрыкин ненавистный на ветке клена. «За ногу повесил, гад, за ногу! Вниз головой повесил», – вспомнил он и, приподнявшись, достал из-под себя веревку, улыбаясь сумрачно и странно, на колени положил и гладил как живую. Как кошку гладят. «Хорошая веревка», – думал он. «Вот если бы наоборот, наоборот! – веревку на коленях собирая в петлю, думал он, – наоборот! Я был Бобрыкин, а Бобрыкин – я, то как бы задушил его тогда веревкой этой, как бы я его повесил!» – думал он и, встав, с веревкой вместе подошел к окну.
День зимний короток, до Масленой недели сумерки в окно приходят рано, и, если включен свет, в окне двоится отраженье. Шишин свет включил и в отражении Бобрыкиным себя вообразил, веревку на плечи накинул и, затянув на шее петлю, показал Бобрыкину язык.
– Господи помилуй, ты опять?! – спросила мать из-за спины, неслышно в комнату войдя, и, вздрогнув, обернулся он с петлей на шее.
– Сними, чумной, беду накличешь! – сказала мать и отраженье вместе с Шишиным перекрестила.
Он неохотно, пальцами слепыми распустил петлю и, сняв, веревку задумчиво перебирал в руках, по узелкам считая, чтобы не забыть, с какого начал. Шишин не любил, когда к нему входила мать. Мать тоже не любила, если Шишин входит…
«Мать, кстати, тоже можно задушить веревкой, все равно не любит», – подумал он и посмотрел на мать внимательно, с шестого узелка.
– Что вылупился?! Дай сюда! – велела мать и быстро подошла, отобрала веревку. – За хлебом, душегуб, сходи!
Всегда ходил за хлебом Шишин. Постоянно. Как на почту. Каждый день ходил. Как будто мыши в хлебнице на кухне жили.
– Селедочки еще купи. Посолимся, сынок. Сегодня можно, праздник, – объяснила мать, пока возился Шишин в коридоре, пальцем помогая влезть ноге в запя?ть.
– Да хоть бы ложку взял, как люди, идиот! – сказала мать.
«Зачем мне ложка, – удивился Шишин, – если я ботинки надеваю?.. И что за праздник, когда нельзя сосисок, колбасы сырокопченой, сала… И кашу с утра перловую дала без молока и без изюма?» – думал он и, взяв протянутую пятисотку, недоуменно посмотрел на мать.
– Иди-иди… Господь с тобой, – сказала мать, и Шишина опять перекрестила.
«Живого места нет на теле от креста», – подумал он и, низко натянув собачью шапку, вышел.
Шишин вышел.
Мать за ним закрыла.
В общем коридоре было тесно, пыль на старой мебели лежала, пол прилипал к следам, линолеум вздымался пузырями и, лопаясь, ботинками хрустел. Вверху под потолком на крючьях ржавых висели лыжи, камера велосипедная на них. Он сделал вид для матери, которая всегда в глазок смотрела в спину, что уходит, и вернулся, пятясь, за камерой велосипедной. Встал на табурет, чтоб дотянуться, снял ее и, сжав в руках, по черной лестнице пошел. За хлебом.
На лестничной площадке увидел Шишин ненавистного Бобрыкина, стоявшего спиной к нему, согнувшись. Бобрыкин ненавистный в длинном бархатном халате мусор вытряхивал в контейнер, и страшно, как к покойнику овчарь, выл ветер в мусорной трубе. Тихонько крался Шишин, камеру велосипедную петлей сжимая, и, так же тихо прокравшись мимо, обернулся, добежав до нижнего пролета, и, снизу посмотрев наверх, велосипедной камерой в Бобрыкина швырнул.
Пельменями из дворницкой тянуло, кислым мясом, там жили люди в таджикских байковых одеждах, с тюрбанами, с зубами золотыми, без креста. В лифтовой шахте копошились крысы, где-то в доме открывались и захлопывались двери, мигала тускло лампа, ящики почтовые тянулись вдоль стены.
Над ящиками было рукой врага написано: ГАНДОН!
Дверь за собой захлопнув, Шишин с черной лестницы в парадное ворвался, спиной к двери прижавшись, замер, прислушиваясь, не идет ли следом Бобрыкин ненавистный с камерой велосипедной, чтобы задушить его, но тот не шел, и, подождав немного, Шишин вдоль почтовых ящиков шмыгнул к своей ячейке и, на лифты косясь украдкой, чтоб не распахнулись, быстро вставил в дверцу ключ, та приоткрылась. Глаза зажмурив, Шишин осторожно руку в почтовый ящик опустил. Всегда зажмуривался Шишин, когда не знал, что в ящике почтовом. «А этого никто не знает, никогда», – подумал он. «Засунешь руку, – думал он, – а там вдруг кошка, например, сидит. Возьмет и тяпнет. Откусит палец по колено, буду знать…»
Или Бобрыкин ненавистный ворону дохлую опять подложит…
«Никогда не знаешь, что там может быть», – подумал Шишин, вспоминая, как в третьем классе Бобрыкин ненавистный дохлую ворону подложил в портфель ему. «Бобрыкин ненавистный!» – думал он и никогда не лазил в ящик с открытыми глазами, каждую секунду готовый спрятать руку и одновременно опасаясь, как бы за спиной не распахнулся лифт и из него не вышел сам Бобрыкин с камерой велосипедной, чтобы задушить его. «Бобрыкин ненавистный…» – думал он.
Вороны не было, на дне конверт нащупал Шишин, схватил его и, с облегченьем к груди прижав, стоял, не открывая глаз, и так стучало сердце под конвертом, точно перепрыгнуло из Шишина в конверт. Почерком Танюши ровным, точно в прописной тетради, значилось в линейке адресата:
Шишину от Тани.
Улица Свободы, 23.
«Шишину от Тани…» – Шишин прочитал, вздохнул и выдохнул, лицо в бумагу спрятал и долго дышал чернилами и типографской краской, клеем канцелярским, лакрицей, жженым сахаром, корицей, монпансье и мылом земляничным… и той рукой, что выводила: Шишинуоттани! Тани-Тани-Тани! Трам-пам-пам!.. – стучало сердце.
Щекотно было, запах светом солнечным сочился. Перцем лестничная пыль глаза слепила, и расплывались строчки на губах. От Тани, Тани! Тани! Тани… Трам-пам-пам!
Все расплывалось, растворялось, все стучало! Все! Пельменный запах, лампа, батарея, мать за дверью, тусклая вода… и растворилось, все пропало, все исчезло… Все! Трам-пам-пам! – стучало сердце, и Шишин не заметил, как огоньки табло над лифтом вверх вбежали и быстро заскользили вниз.
«Шишину от Тани…» – опять подумал он, нос защипало радостно, как одуванчиками в мае, мятным леденцом, кленовым медом…
Весенней пылью.
Коркой ледяной.
Полынью пыльной у забора.
Черешней, что с Танюшей ели из газетного кулька, вдвоем, и воблиным хвостом.
Ореховым колечком.
Кексом кулинарным в коричневой промасленной бумаге.
Киселем в брикете.
Крем-брюле…
Черемуховым снегом.
Варежки комочком, сухарем с изюмом, конфетой «Ласточка», кремнем о кремень, корой сосновой и янтарной пылью, которую закатные лучи в библиотечных школьных полках собирают…
Он не удержался и чихнул, забыв в рукав прикрыться, рот перекрестить забыв…
– Здоров чихать, брателло! Пей скипидар, ты нужен людям! – сказал Бобрыкин ненавистный, выходя из лифта, и к Шишину неторопливо, усмехаясь, пошел, чтоб отобрать письмо и камерой велосипедной задушить его…
– Смотрю, ты, брат, опять чего-то замышляешь? Ишь как нахохлился, ну, сознавайся, что молчишь? Молчишь? И хрен с тобой! Держи!
И камеру велосипедную на шею Шишину накинув, Бобрыкин ненавистный мимо прошагал, к своей ячейке, достал газету и, опустив ее в карман просторный длинного халата, дверь распахнул на лестницу и скрылся.
Глава 3. Два капитана
«Бес вверх плюет, а ангел к низу», – подумал он и, вытянув веревку с антресолей, слез, убрал стремянку и в комнату свою пошел, на ключ закрылся, положил веревку на кровать, сел сверху, дальше думать стал. «Не будет Бобрыкин ненавистный стоять и ждать, пока я задушу его веревкой, – думал Шишин дальше, – он меня сильнее. Вырвет веревку и надает по шее, как в прошлый раз…» Шишин уже не в первый раз пытался задушить Бобрыкина веревкой, но все не выходило: то Бобрыкин ненавистный не оказывался дома, если Шишин заходил душить его, то дома были Оленька с Танюшей, а при них душить Бобрыкина неловко становилось, а то вдруг, разглядев в руках у Шишина веревку, Бобрыкин отбирал ее, и приходилось Шишину идти за новой, в хозяйственный через дорогу или в другой хозяйственный, что тоже, как назло, через дорогу был.
Иногда, увидев нетерпеливо переступавшего под дверью Шишина с веревкой, Бобрыкин злился и мог крепко оттрепать за уши или брал нос Шишина в щепотку и больно крутил его, пока у Шишина в глазах не солонело.
Однажды Шишин вцепился в новую веревку и не хотел отдать Бобрыкину ее, и тот за это с лестницы спустил его, пообещав, что в следующий раз задушит Шишина и без веревки, голыми руками. «Мешок со сменкой, сволочь, на лампу в раздевалке вешал, – думал Шишин, – знал, что не достану, а буду прыгать, всех просить, чтоб сняли, а никто не снимет, а будут только гоготать, руками тыкать… Не люблю, когда руками и гогочут», – думал он.
«Ищите дурака другого гоготать и тыкать», – думал. Он любил, чтобы другого дурака искали тыкать, гоготать. Другого, не его. «В собачку еще мешком моим играли на переменке, в футбол в спортивном зале», – думал Шишин, сидя на веревке сверху, и делался мрачнее. «Танюша видела, как все мешком играли, моим мешком играли, не смеялась, одна из них из всех, из них из всех одна. А я смеялся, чтобы думали, что я смеюсь», – подумал он.
«От Танюши земляничным мылом пахнет…» – вспомнил Шишин и в ванную хотел пойти, понюхать мыло, но вовремя сообразил, что мать, пока он в ванной будет нюхать мыло, может в комнату зайти. «Найдет веревку и отнимет», – подумал Шишин и мыло нюхать в ванну не пошел.
В третьем классе повесил Шишина Бобрыкин ненавистный на ветке клена. «За ногу повесил, гад, за ногу! Вниз головой повесил», – вспомнил он и, приподнявшись, достал из-под себя веревку, улыбаясь сумрачно и странно, на колени положил и гладил как живую. Как кошку гладят. «Хорошая веревка», – думал он. «Вот если бы наоборот, наоборот! – веревку на коленях собирая в петлю, думал он, – наоборот! Я был Бобрыкин, а Бобрыкин – я, то как бы задушил его тогда веревкой этой, как бы я его повесил!» – думал он и, встав, с веревкой вместе подошел к окну.
День зимний короток, до Масленой недели сумерки в окно приходят рано, и, если включен свет, в окне двоится отраженье. Шишин свет включил и в отражении Бобрыкиным себя вообразил, веревку на плечи накинул и, затянув на шее петлю, показал Бобрыкину язык.
– Господи помилуй, ты опять?! – спросила мать из-за спины, неслышно в комнату войдя, и, вздрогнув, обернулся он с петлей на шее.
– Сними, чумной, беду накличешь! – сказала мать и отраженье вместе с Шишиным перекрестила.
Он неохотно, пальцами слепыми распустил петлю и, сняв, веревку задумчиво перебирал в руках, по узелкам считая, чтобы не забыть, с какого начал. Шишин не любил, когда к нему входила мать. Мать тоже не любила, если Шишин входит…
«Мать, кстати, тоже можно задушить веревкой, все равно не любит», – подумал он и посмотрел на мать внимательно, с шестого узелка.
– Что вылупился?! Дай сюда! – велела мать и быстро подошла, отобрала веревку. – За хлебом, душегуб, сходи!
Всегда ходил за хлебом Шишин. Постоянно. Как на почту. Каждый день ходил. Как будто мыши в хлебнице на кухне жили.
– Селедочки еще купи. Посолимся, сынок. Сегодня можно, праздник, – объяснила мать, пока возился Шишин в коридоре, пальцем помогая влезть ноге в запя?ть.
– Да хоть бы ложку взял, как люди, идиот! – сказала мать.
«Зачем мне ложка, – удивился Шишин, – если я ботинки надеваю?.. И что за праздник, когда нельзя сосисок, колбасы сырокопченой, сала… И кашу с утра перловую дала без молока и без изюма?» – думал он и, взяв протянутую пятисотку, недоуменно посмотрел на мать.
– Иди-иди… Господь с тобой, – сказала мать, и Шишина опять перекрестила.
«Живого места нет на теле от креста», – подумал он и, низко натянув собачью шапку, вышел.
Шишин вышел.
Мать за ним закрыла.
В общем коридоре было тесно, пыль на старой мебели лежала, пол прилипал к следам, линолеум вздымался пузырями и, лопаясь, ботинками хрустел. Вверху под потолком на крючьях ржавых висели лыжи, камера велосипедная на них. Он сделал вид для матери, которая всегда в глазок смотрела в спину, что уходит, и вернулся, пятясь, за камерой велосипедной. Встал на табурет, чтоб дотянуться, снял ее и, сжав в руках, по черной лестнице пошел. За хлебом.
На лестничной площадке увидел Шишин ненавистного Бобрыкина, стоявшего спиной к нему, согнувшись. Бобрыкин ненавистный в длинном бархатном халате мусор вытряхивал в контейнер, и страшно, как к покойнику овчарь, выл ветер в мусорной трубе. Тихонько крался Шишин, камеру велосипедную петлей сжимая, и, так же тихо прокравшись мимо, обернулся, добежав до нижнего пролета, и, снизу посмотрев наверх, велосипедной камерой в Бобрыкина швырнул.
Пельменями из дворницкой тянуло, кислым мясом, там жили люди в таджикских байковых одеждах, с тюрбанами, с зубами золотыми, без креста. В лифтовой шахте копошились крысы, где-то в доме открывались и захлопывались двери, мигала тускло лампа, ящики почтовые тянулись вдоль стены.
Над ящиками было рукой врага написано: ГАНДОН!
Дверь за собой захлопнув, Шишин с черной лестницы в парадное ворвался, спиной к двери прижавшись, замер, прислушиваясь, не идет ли следом Бобрыкин ненавистный с камерой велосипедной, чтобы задушить его, но тот не шел, и, подождав немного, Шишин вдоль почтовых ящиков шмыгнул к своей ячейке и, на лифты косясь украдкой, чтоб не распахнулись, быстро вставил в дверцу ключ, та приоткрылась. Глаза зажмурив, Шишин осторожно руку в почтовый ящик опустил. Всегда зажмуривался Шишин, когда не знал, что в ящике почтовом. «А этого никто не знает, никогда», – подумал он. «Засунешь руку, – думал он, – а там вдруг кошка, например, сидит. Возьмет и тяпнет. Откусит палец по колено, буду знать…»
Или Бобрыкин ненавистный ворону дохлую опять подложит…
«Никогда не знаешь, что там может быть», – подумал Шишин, вспоминая, как в третьем классе Бобрыкин ненавистный дохлую ворону подложил в портфель ему. «Бобрыкин ненавистный!» – думал он и никогда не лазил в ящик с открытыми глазами, каждую секунду готовый спрятать руку и одновременно опасаясь, как бы за спиной не распахнулся лифт и из него не вышел сам Бобрыкин с камерой велосипедной, чтобы задушить его. «Бобрыкин ненавистный…» – думал он.
Вороны не было, на дне конверт нащупал Шишин, схватил его и, с облегченьем к груди прижав, стоял, не открывая глаз, и так стучало сердце под конвертом, точно перепрыгнуло из Шишина в конверт. Почерком Танюши ровным, точно в прописной тетради, значилось в линейке адресата:
Шишину от Тани.
Улица Свободы, 23.
«Шишину от Тани…» – Шишин прочитал, вздохнул и выдохнул, лицо в бумагу спрятал и долго дышал чернилами и типографской краской, клеем канцелярским, лакрицей, жженым сахаром, корицей, монпансье и мылом земляничным… и той рукой, что выводила: Шишинуоттани! Тани-Тани-Тани! Трам-пам-пам!.. – стучало сердце.
Щекотно было, запах светом солнечным сочился. Перцем лестничная пыль глаза слепила, и расплывались строчки на губах. От Тани, Тани! Тани! Тани… Трам-пам-пам!
Все расплывалось, растворялось, все стучало! Все! Пельменный запах, лампа, батарея, мать за дверью, тусклая вода… и растворилось, все пропало, все исчезло… Все! Трам-пам-пам! – стучало сердце, и Шишин не заметил, как огоньки табло над лифтом вверх вбежали и быстро заскользили вниз.
«Шишину от Тани…» – опять подумал он, нос защипало радостно, как одуванчиками в мае, мятным леденцом, кленовым медом…
Весенней пылью.
Коркой ледяной.
Полынью пыльной у забора.
Черешней, что с Танюшей ели из газетного кулька, вдвоем, и воблиным хвостом.
Ореховым колечком.
Кексом кулинарным в коричневой промасленной бумаге.
Киселем в брикете.
Крем-брюле…
Черемуховым снегом.
Варежки комочком, сухарем с изюмом, конфетой «Ласточка», кремнем о кремень, корой сосновой и янтарной пылью, которую закатные лучи в библиотечных школьных полках собирают…
Он не удержался и чихнул, забыв в рукав прикрыться, рот перекрестить забыв…
– Здоров чихать, брателло! Пей скипидар, ты нужен людям! – сказал Бобрыкин ненавистный, выходя из лифта, и к Шишину неторопливо, усмехаясь, пошел, чтоб отобрать письмо и камерой велосипедной задушить его…
– Смотрю, ты, брат, опять чего-то замышляешь? Ишь как нахохлился, ну, сознавайся, что молчишь? Молчишь? И хрен с тобой! Держи!
И камеру велосипедную на шею Шишину накинув, Бобрыкин ненавистный мимо прошагал, к своей ячейке, достал газету и, опустив ее в карман просторный длинного халата, дверь распахнул на лестницу и скрылся.
Глава 3. Два капитана