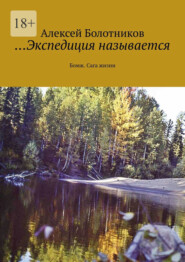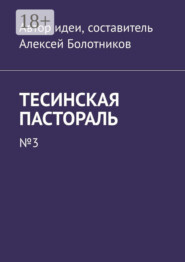По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тесинская пастораль. №8
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А штаны снимем и, заголив задние места, будем по воде бегать. Булькать, шуметь, в общем, воду морщить, да щучье племя корчить. – Так и сделали. Я, носясь по заливу, хлестал по воде своей орясиной, Митя хлюпал в воду своим бучилом, только брызги летели во все стороны. Окаянствовали так, что не только рыбе, а и водяным чертям, если они там водились, не поздоровилось, тошно стало.
И тут я обратил внимание, что из водорослей к сетям потянулись как бы усы и стрелы, вздрогнули наплава, стрелы эти упирались в сети, да настолько часто, что тяга огрузла. Обулькали залив. Митрий опять обратился к силам небесным с просьбой помощи, и поехали мы, рыбку из сетей доставать. Подплываем к сетям, Митя приговаривает: «Первую рыбку выпустим, – это Богу», сеть приподнял, с самого края здоровенная щучина, килограмма на два с половиной, втюрилась. Митя озадаченно присвистнул: «Ну, такую кобылку – хреночки, а не Богу». Выпутал ее и шмяк в лодку. А щучина изогнулась дугой, ударила хвостом, да и через край в родную стихию. Я ахнул, Митя на бульк обернулся, развел руками: «Ну, вот уже и пошутить нельзя, уж Богу так Богу!» стал дальше по тетиве сети идти, одну за другой щук выпутывать, да с приговорками в лодку бросать. Я был на веслах, не греб, а удерживал лодку у сетей. Щук было великое множество. Шлёп да шлёп, быстро наполнялась лодка. До средней тяги не дошли, – а и уложить некуда. Я говорю: «Пора на берег везти добычу», а Митя увлекся, мол, хоть до средины дойдём, сейчас ещё рыбку, да ещё рыбку. Чувствую я, что мы погружаемся в воду почти по кромку бортов.
«Тонем мы, – говорю, – однако, Митя». Дмитрий обернулся, глянул: «Давай пулей к берегу, лодка подспускает». Пулей к берегу не очень-то получилось, до половины залива не дотянули, как перегруженная лодка черпанула воды, потом хлебнула ещё и поплыли наши щуки в тёмные омуты, да в заросли, а с мы с Митей, держась за неспустивший отсек лодки, к берегу. Добрались благополучно, вытянули лодку. Глядь, одна из многочисленных заплат отклеилась и отстала, воздух и вышел. Митя мне с укоризной:
«Будешь теперь старших слушать? Говорил тебе: пробковый спасатель одеть?»
«Буду… теперь. Когда гребся к берегу, думал, вот говорят, что голова тяжелее ног, должна быть, а у меня на ногах пудовые гири. Слава Богу, живы. Гот мит унс. А с немецкого языка означает- с нами Бог. Ведь ты сам Господа нашего да святителя Николая -чудотворца дважды просьбой обременил и обеспокоил.
– Не обременял я их и не беспокоил.
– Да я же сам слышал, что ты взмолился, чтобы помогли они больше нагрести и меньше унести. Вот так и вышло. И первую рыбу, ты тоже Создателю не вдруг презентовал.
– Да это я так, к слову…
– Вот это простое слово, видно и дошло по назначению, и желание величайшей милости к нам исполнено в точности!
– Пусть себе ночку порезвятся, пожируют, а утром стреножим заново. Заплата готова, качай лодку, я один сплаваю, вторые полтяги отсниму скоренько, а ты хворост на ночь заготовь, костер вздуй, на рогульки – котелок воды с картошкой для ухи и чайник для чая, а мокрую одежку, на поветрие, махом обыгнется.
Сделал я все, что наказал Дмитрий, еще сверх того накрыл скатерть-самобранку, в машине было всё для чревоугодия: шмат копченого сала, малосольные огурцы, лук, укроп, баночка соленой черемши и бутылка «Московской» водки ценой 2 рубля 87 копеек. Тут Митя приплавил полную лодку «востропятых кобылок». В два ножа мы быстро пороли щук, освободили от внутренностей; присолив, сложили в мешок толстого полиэтилена, прикопали в ямке, чтобы не протухли. Пару почищенных щук Митя определил в котелок, где булькая, доходила до готовности картошка; бросил туда же горсть репчатого лука, лаврового листа, перца, горошка. Близ стана нашел полевого лука-чеснока, тоже добавил, чуть позже – укропа, да уголек из костра в варево макнул. Проше ухи может быть, пожалуй, только пареная репа. Вода, картошка, рыба и специи. А на костре приготовленная, вкусна необыкновенно. Митя к ухе ещё и двух щучек – травянок на рожне изготовил, – по хребту их распластал, посолил, поперчил и распял на рогульках, воткнув их в землю, под углом к горячим углям костра. Видимо на десерт, закопал в золу десяток картофелин.
Митя спрашивает: «С чего начнем, с ухи или рыбы на рожне?»
– Ухи очень хочется, но начнем с… водки, да не какой-нибудь, а особливо «Московской», традиционно под черный хлеб и малосольный огурец. Налили по второй – «под уху». Выпили под эту вкусность и по третьей, а больше наливать не стали, так как исходил ароматом дикой смородины, таежных корешков да травок – чай. Дмитрий, заткнув пробкой, убрал половину бутылки водки, и мы приступили к чаепитию. Митя говорит: « Ты ажно вспотел, вот так и надо. Ешь – потей, работай мерзни, на ходу маленько спи». Не прав был Митя, что «чай, – не водка, – много не выпьешь». Кружку за кружкой пил я с наслаждением, обжигающий губы чай, с кусочком комкового сахара вприкуску. Чаевничали долго, с разговорами. Я говорю: « Хорошо – то здесь как». Митя: « Еще того лучше, – у костерка, на каменной косе. Камешек под голову, да пару под бока. Вот пусть наши благоверные дома на пуховых перинах помучаются». Разговор повернул на извечную тему. И я спросил: не тот ли передо мной Митя, который на черноморское побережье, в санаторий, через соседнюю деревню ездил? Митя вздохнул.
– Чего бы я на курорте делал, народу там уйма, а я привык к сибирской тайге. О том, что получилось не сожалею, с женой подали на развод, не надо перед ней больше хитрить, да она уже сошлась с зоотехником со зверофермы. Из нашего же села, я – то хоть лыжи вострил в соседнее село. Мне об этом ещё раньше анафемская душа, Марья – искусница, доносила, она же меня и на «курорте» выследила и моей благоверной доложила. Или виды какие Марья на меня имела, или со свету сжить хотела, кто знает? А только глаз свой урочный положила. Раньше заметил, что тропит меня Марья и скрадывает, как тот медведь – рыскун. И куда налажусь – на рыбалку, на охоту, – с ведром пустым меня встретит и благ всяческих накажет. Уж как я ни исхитрялся, а она как с под земли, как с воздуха образуется. Потом у меня все из рук валилось, и ружье осекалось и мимо стреляло, и руку топором едва не изувечил, и лесина-выворотень на меня заваливалось. В трех кедровых соснах плутал, это на своем охотучастке, где за два десятка лет всё исхожено вдоль – поперек. Дерево рухнуло, а ветровала не было, чуть отскочил, да и рыскуна похоже, она на меня напустила. Получилось, что не я за ним охотился, а он меня скрадывал, и если бы не мой верный пёска Соболь, не сидеть бы мне сейчас с тобой у костра, не чаевничать. Получилось с рыскуном совсем не так, как в геройском кино кажут, да в книгах пишут. Нет. Когда рыскун из скрадки на меня махнул, я едва успел ружье на изготовку взять, а куда стрелить – накатывается смрадная серо-бурая гора большая, а стрелить вроде бы и некуда. А тут наваждение, – блазнится мне, что вроде, как Марья пустым ведром голову ему оберегает, и не успел я стрелить убойно, да повис у него на морде пёска мой Соболь. Это его Бог в подмогу послал, не иначе. Сбоку Соболь взметнулся и повис у рыскуна на морде, понял он, что мне конец сей миг придет, и за меня смертушку принял. Рыскун башкой чуть в сторону повел, да когтистой лапой по животу Соболя полоснул, в это время наваждение у меня с глаз пропало, и я стрелил из двустволки. И пулю, и картечь положил между ухом и глазом, потом еще двумя выстрелами в упор упокоил. После по его следам прошел и понял, что рыскун на меня охотился, обраненный он был кем-то, рана беспокоила. На зиму залечь бы не смог, не накопил жира для зимней спячки, наделал бы он худших делов: окромя задранных коров, на людей, видишь, охотиться норовился. Слышал я, что псы все в рай попадают, как думаешь?
– Про всех не скажу, а твой Соболь точно там, негде ему больше быть, – геройскую смерть принял.
Вера в православного бога у Дмитрия удивительно и причудливо уживалась с язычеством. Верил он в лесных и водяных духов, да и поклонялся им. Я спросил: «Как так получается?» Дмитрий, глазом не моргнув, сказал: «Бог-то главный, а эти у него в услужении, на побегушках. А попробуй-ка им не поклонись да не подмасли в тайге-то, чё добудешь-то? Да им много и не надо. Крупки горсточку, щепоть соли, сахара. Ну, спирту чуть плеснешь, гильзу можно подарить, тряпочку какую навязать. Без этого нельзя, – удачи не будет. А уж Господь с ними сам разберётся, не нашего ума дело. «А у тебя как вот ласковое отношение к Всевышнему с партбилетом уживается?» И ещё спросил Дмитрий, мол, какие три желания заветных я загадал, когда он выпустил первую щуку. – Да я не успел ахнуть, как она за борт сиганула, – отвечаю. – Так опять же я не Емельян, а Николай.
Дмитрий отгрёб в сторону угли костра, веничком подмёл, чтобы не было искр, на новом месте подбросил на тлеющие угли ещё хвороста, бросил кусок брезента на бывшее кострища, прилёг вздремнуть. Я посидел ещё у костра, закурил. Глядя в небо, усыпанное звёздами, куда из костра улетали золотистые искорки, мысленно обратился к Господу Богу с возблагодарением за ночь эту, задумчиво-чудную. И не просила душа моя ни стай «зубастых кобылок», ни материальных богатств, а радовалась телесному здоровью, благолепному слиянию с матерью природой. Не спалось. Отойдя от костра, побродил по необыкновенному лугу. Уже пала роса. Над лугом вился колдовской белесый туман, жаловался на что-то рыдальщик-кулик, трещали коростели-дергачи, крякали утки, пролетела ушастая сова – мышатница, – шла обычная луговая жизнь. Даже комары унялись. Река спокойно несла свои воды, не рябила; слышались всплески, наверное, щуки паслись, или окунь разбойничал. И думалось легко и о хорошем. Возвратившись к костру, прилёг на край брезента, возле Дмитрия, от нагретой костром земли ощутил тепло. Дымокур отгонял комаров.
Проснулся я на рассвете, однако же, Дмитрий уже успел и лодку накачать, и костер, подёрнувшийся седым пеплом, подживить, остатки вчерашней ухи взгреть и чайник свежего чая накипятить, с травками да чагой, со смородиной. Позавтракали рыбой, пожаренной на рожне. Попили чаю.
Оббулькали залив. Митя уже поплыл к сетям, снимал «верёвкой», то есть снасти вместе с рыбой вытаскивал в лодку, да при этом сыпал шутками-прибаутками. Я пытался его урезонить, на что Митя пропел, что он «жил в лесу и молился колесу, и что если Митя бреется, значит, он надеется, на улов надеется, значит, будет жить».
На берегу, мы выпростали из сетей щук, перебрали сети, повесили на ветерок обтечь и подсушиться. Щук было не просто много, а очень много, гораздо больше того, сколько съесть можно, угостив и родных и знакомых. Митя посмотрел на меня и спросил: «Почто загрустил, пана, оно конечно, часть „востропятых“ ускакала вчарась, так и сегодня натолкалось нам подходяще». Я рассмеялся и ответил, что девать мне столько некуда. «Десяток возьму, остальное забирай себе», – говорю. Митя руками развел.
– Да, что ты такое говоришь, другой раз так не скажи, в кумпании так нельзя, – укорил он. – Мне ведь тоже больше десятка не осилить, дюже много. Возьмём по десятку, а об остальном – не твоя печаль». Раскинули две кучки по десять щук. Я отвернулся, а Митя указал на одну, спросил: « Это кому?» – «Это тебе» – «Ну и славно, складывай своих в рюкзак». Сложили снасти, посуду, переоделись. Митя залил водой костер. Я говорю: «Так здесь вроде бы и гореть-то нечему».
– Нет, огонь пищу себе найдёт. Бережёного и Бог бережёт. Я в тон добавил: «А не бережёного конвой стережёт».
Митя отреагировал серьезно:
– А тех, которые тайгу жгут, и надо стеречь, чтобы другим не повадно было. Совсем уж собрание. – Митя, окинул становище взглядом, – не забыли ничего. И давай страшную «запугу бормотать». Смысл сводился к тому, чтобы «никто в загашник на плёсо не совался, чтобы водяной глаза завидущие застил, а руки загребущие силы лишал, чтобы вокруг плёса водил, а места не показывал». Я спросил: «На какое время запуга?» «А на тридцать лет и три года ровно, – ответил Митя. И мы уехали.
…Прошло ровно тридцать лет и три года, действие табу закончилось, поэтому я и поведал о том « Митином загашнике».
Два года переделывал меня Митя из удильщика в рыбака. К удильщикам он относился со снисходительным уважением: как воспитатель к своим подопечным в детском саду. Научил и зимой сетями из подо льда ловить. При переборке сетей, когда за минус 20° и обжигает хиус, я отогревал руки в ледяной шуге майны и не морщился. А когда однажды я обратил внимание Дмитрия, что он меня не наругал ни разу, Дмитрий остановился, задумался:
– А ведь и правда, что ж это я, а? Дак, однако, и не за что, а впрочем, для порядка всё равно надо, чтоб не зазнавался… Ах, чтоб тебя разнесло на кочках, увалень ты этакий, руки как крюки, подрезай тетиву, под ногу её, а верх выше подними, вишь, карпы прыгают, расшаперился, раззява!»
В глубине души всё равно остался я удильщиком. Истинное удовольствие от вздрогнувшего да заплясавшего поплавка, да задергавшейся лески доставляется. И сейчас, когда вижу на протоке одинокого энтузиаста – подростка с удочкой – окатывает тёплой волной сердце, а губы сами по себе шепчут: «Ни хвоста, ни чешуи тебе, браток!»
Нет уже ни Подхолодного, ни Барнаульского, ни Джойского озёр, ни Клоповского пруда и многих других водоёмов, где рыбачил в детстве. Стала красавица Протока полустоячей старицей с вонючей, малопригодной для питья, водой. Нет прежней Минусинки. Нет ни тугунов, ни харюзов, ни ленков, ни язей, пескарей, ершей. Даже подкаменный бычок – широколобка, – рыбка, которую в Сибири именовали совсем уж неприличным словом, которой водилась тучи, исчезла. Неприличное то слово никуда не делось, а рыбы нет. Из газетной публикации узнал, что «приказали долго жить» и Жукову пруду. Не Вадим бы Петрович Федяев, поклон ему и долгие годы жизни, так разделались бы и с Тагарским озером. Бьёт в набатный колокол по поводу судьбы Протоки, да и города в целом квалифицированный специалист – гидролог Анатолий Сергеевич Кривошеев, поклон ему до земли – да разве мы услышим, да перекрестимся? Нет, конечно, гром не грянул, зачем же креститься?
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: