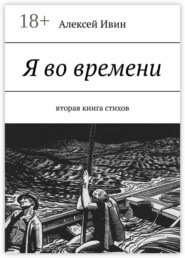По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы по алфавиту
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мысли завихрились в голове Шеркунова, когда он, взмыленный как иноходец, истекая желчью, ворвался на почту. Но, просидев несколько минут, перепортив множество бланков и отвергнув десятки вариантов телеграммы, он неожиданно успокоился и уже начал подумывать, а не поехать ли действительно самому: в конце концов, надо быть джентльменом. Но эта мысль была еще слишком тягостна для самолюбия, и, обругав себя слюнтяем, рохлей, не способным проявить твердость и последовательность в намерениях, он сочинил, наконец, текст, который его удовлетворил. Жестко, но с достоинством: «Приезжай немедленно иначе все кончено= Андрей». Он верил, что это подействует.
Такая получилась словесная перепалка.
II
Анна расплакалась. Ей было обидно, горько. Она не ожидала такого ответа. Ведь должен же он был понять, что, раз уж она не приехала, ее что-то задержало! Именно на это понимание она и надеялась, когда, потеряв билет и обнаружив пропажу лишь за две минуты до отправления поезда, после тщетных призывов к великодушию проводницы («Ну пустите меня! Мне срочно нужно ехать!») послала ему вторую телеграмму. И вот ответ. В нем жесткий краткий ультиматум, надругательство над ее искренностью, над ее любовью.
Анна расплакалась. Ее мысли заметались, разноречивые чувства сплелись в борьбе: непереносимо захотелось уступить ему, и она проклинала себя, что не купила билет на другой поезд, но она опасалась унизиться, слишком раскрыться, опасалась, что он, польщенный уступкой, вскоре охладеет к ней. Ведь как всегда бывает с мужчинами? Стоит им несколько раз подряд убедиться, что их любят, как они остывают и, точно варвары, разграбив взятый ими город, нагрузившись драгоценностями, сытые, довольные, уходят, оставляя дымящиеся руины. Инстинктивно боясь этого, но одновременно сгорая от любви к своему мучителю, не умея ничего решить, Анна все плакала и плакала; силы покидали ее, наваливалась усталость и опустошенность, и все, что раздирало душу, теперь казалось ничтожным, вздорным, суетным. И это облегчало; и она плакала уже от жалости к себе, и знать, что она всеми брошена, покинута, что все от нее отвернулись и что она очень-очень несчастна, – знать это было невыразимо больно и сладко; и она истязалась этим, и успокаивалась, умиротворялась, как схимница после изнурительного самобичевания, окровавленная, в разодранных одеждах, но смирившая свою плоть, свой мятущийся дух. Поплакав, она почувствовала себя совсем разбитой, физически и душевно, и, размазывая слезы мокрой ладонью, побрела к трюмо, – посмотреть, какова-то она? Может, ей очень к лицу – плакать… А может, ей еще раз захотелось порисоваться своим несчастьем. Она ощутила трогательную заботливость, сострадательную нежность и жалость к своему унылому лицу с припухшими веками, с блестящими от слез, трагическими глазами и потеками на щеках. Забывшись, залюбовавшись собой, она поняла, что обижать, не любить такую искреннюю, такую красивую и добрую женщину, как она, – глупо, нерасчетливо. Она почувствовала легкое презрение к Шеркунову и отошла от зеркала. Теперь, когда злые страсти улеглись, она стала тиха, ровна, горделива, как лес после грозы, когда среди срывающихся капель, мокрого шелеста тонких осинок и дробящихся солнечных лучей сперва робко, а потом все смелей разливается песня какой-нибудь пташки.
Остаток дня Анна провела в мелких заботах. Пока она обегала магазины, пока готовила обед (ее мать работала проводницей в поезде дальнего следования, поэтому Анна часто хозяйничала одна и поэтому хотела отправиться к Шеркунову; заручиться же от матери проездным и льготами ей как-то не пришло на ум), пока болтала по телефону с подругами, она избавлялась от мыслей о Шеркунове, но как только наступил вечер, эти мысли вновь завладели ею. Они, навязчивые, углубленные, обессиливали ее: она не привыкла так много думать, принимать и отвергать столько решений. Она боялась, что не вынесет нравственного самосуда и уедет к Шеркунову. Она не любила ни думать, ни решать, ни осуждать себя и искала развлечений. Поэтому ее ум, едва начав просыпаться, тут же засыпал вновь; все ее поступки основывались на чувствах, неосознанных влечениях, симпатиях и антипатиях.
Вот и сейчас она захотела успокоения, вспомнила, что подруги пригласили ее на студенческую вечеринку, тщательно оделась и вышла.
Она должна поступить с ним так же жестоко, как он с ней. Мера за меру. Неужели он думает, что она такая дурнушка, что не способна нравиться другим? Еще как способна! И точно девочка, которую ни за что ни про что выбранили родители, нарочно толкает бабушку, или ломает игрушку, или отказывается есть, – так и ей захотелось вредничать. Ее самолюбие восстало. Воспламененная, словно кулачный боец, которому под свист и одобрительное улюлюканье простонародья выбили зуб, – она вспыхнула ответным гневом. Она забыла, что еще недавно, во время их последней встречи, уверяла его в любви. В л ю б в и. Но и тогда, и сейчас она была права; тогда – потому что он баюкал ее самолюбие, он нежил ее, называл ласковыми именами, водил в театр, дарил цветы, и она любила его, осчастливленная, что он п р и н а д л е ж и т ей и все это видят; сейчас – потому, что он оскорбил ее самолюбие, святая святых молодости, и она чувствовала, что если простит, то вынуждена будет прощать и впредь. А этого она не хотела. Может быть, он считает, что она покушается на его московскую квартиру? Бог с ней, с квартирой, ей и в Логатове неплохо. Глупо в ее-то годы привязываться к одному человеку, как будто нет других. Она никому не позволит командовать ею: она свободный человек…
Анна зашла к подругам. Они уже были готовы и, оживленные, поджидали ее. Вечер в политехническом институте обещал быть интересным.
Действительно, в танцевальном зале толпилось много парней. На сцене гитаристы настраивали гитары. Свет был притушен. Принужденно ждали, когда зазвучит музыка.
Щебечущей стайкой впорхнув в зал, Анна и ее подруги образовали кружок и принялись болтать о том о сем. Они обсудили одного, второго, третьего из своих знакомцев, живо представляя их в лицах, но, наконец, и ими овладело нетерпение: музыканты все еще копались в инструментах.
Анна чувствовала на себе чей-то взгляд. Она внимательно изучила зал, но никого, кто бы уж чересчур явно буравил ее глазами, не обнаружила. Она подумала, что это с ней от нервозности. Однако ощущение не проходило, и она забеспокоилась: невпопад отвечала, некстати смеялась или вдруг замирала, приподняв голову, устремив вверх мечтательный взор, – поза, которая, как ей казалось, красила ее и нравилась другим.
Наконец зазвучало тягучее танго; все замолчали и притихли; середина зала начала заполняться танцующими. Анна, прислонясь к стене, ждала, не пригласит ли ее кто-нибудь. Ее больно кольнуло, что месть, которую она задумала и так красочно расписала в воображении, осуществить куда труднее. Она затаенно и страстно хотела, чтобы с ней протанцевали хоть раз, – пусть маленький, но отыгрыш в пику зарвавшемуся себялюбцу Шеркунову.
Она обмерла и возликовала, когда увидела, как из противоположного угла зала направляется рослый блондин; их взгляды скрестились, и она поняла: он к ней… Она едва дождалась, когда он, как полагается в таких случаях, улыбнулся, что-то сказал и взял ее за руку. Золотисто-кудрявый Адонис с открытым прямодушным лицом, он бережно обнял ее, словно укутал цветок. Они познакомились.
Когда танец кончился, Леонид остался с ней, ненавязчиво поддерживая разговор. Он немногословно намекнул, что она ему понравилась, и оттого, что он сделал это мимоходом, она поверила больше, чем если бы он рассыпался в комплиментах. Она скорее почувствовала, чем поняла, что все в нем основательно, надежно, прочно, что он действительно интересуется ею, хотя и сдержанно. Вот я, каков есть, – казалось, говорил он, лениво и однообразно жестикулируя правой рукой, точно взвешивая.
После танцев вышли вместе: Леонид вызвался ее проводить. Путь к дому проходил через железнодорожный вокзал. Холодная ли ночь, какие случаются ранней весной, когда оттаявший за день тротуар к вечеру покрывается ледяной коркой и влажный воздух цепенеет замерзая; сознание ли, что она отомщена, что она способна нравиться, и вызванный этим прилив самодовольства; или, может быть, простое доверительное спокойствие, – что бы там ни было, Анна была признательна Леониду. Теперь, когда он выделил ее и доказал ей, сомневающейся, что она красива и это неоспоримо, к ней вернулась та трезвая беспечность, которая неприступно возвышала ее; теперь она подсмеивалась над его манерой взвешивать слова, точно камни, над его сугубой серьезностью.
И вдруг она увидела Шеркунова. От изумления она остановилась. С сумкой через плечо, быстро ныряя, он шел навстречу. Как он здесь оказался? Когда приехал? Она суматошливо дернулась, как вор, пойманный с поличным: отступила, отвернулась; ее охватил внезапный страх. Она попыталась схорониться за спину Леонида и этим выдала себя. Тот, ничего не понимая, отшатнулся, и Шеркунов увидел ее. Она это почувствовала. Ее страх возрастал с каждым его шагом, панический страх: как во сне, когда убийца заносит нож, и хочешь убежать, но не можешь. Скорей бы ударил.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: