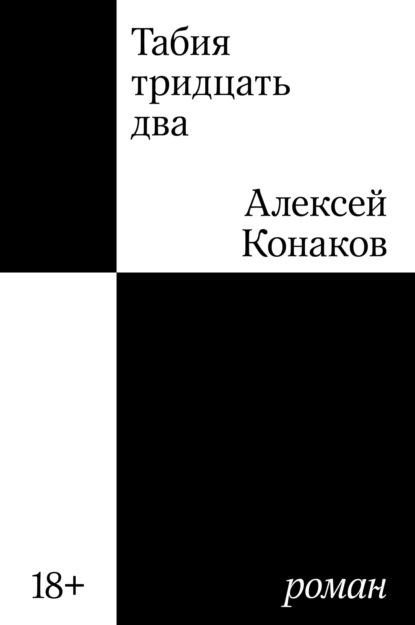По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Табия тридцать два
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Забавах?!
Пить Кирилл не умел; опьянение не доставляло удовольствия, и всего одного бокала цимлянского было достаточно, чтобы голова с утра раскалывалась на части. Но Майя увлекала, Майя манила, и он шел на поводу у желаний подруги – а на следующий день страдал (скрывая эти страдания ото всех). И если бы дело ограничивалось головной болью! Вместе с ней приходили к Кириллу приступы хандры и откровенно мазохистского самокопания, интеллигентских (в плохом смысле слова) мучений и терзаний. Человек совестливый и умеющий анализировать, Кирилл, как выражались его сверстники, «чуял свой гандикап» – понимал привилегированность собственного положения. Множество одноклассников Кирилла давно добывали пропитание тяжелым однообразным трудом; множество однокурсников – вряд ли менее талантливых, но явно менее удачливых – так и не получили шанса всерьез заняться наукой (которую искренне любили). Страна в целом жила бедно и трудно, экономя почти на всем, кое-как сводя концы с концами, избывая наследие Кризиса, выполняя обязательства, взятые на себя в эпоху Переучреждения. И, несмотря на общий оптимизм, владевший гражданами России последние десять лет, лишь немногие могли похвастаться планами, грезами и мечтами; подавляющее большинство населения тратило все силы для простого реагирования на вызовы повседневности.
Впрочем, в это конкретное утро причина горького раскаяния Кирилла оказалась совсем другой. Проснувшись в десятом часу (соседи по комнате, Ян и Толян, давно ушли), он потянулся к телефону и обнаружил два пропущенных вызова и СМС-сообщение от Ивана Галиевича: «Дорогой Кирилл, перезвоните asap. Вас хочет видеть Уляшов».
Ох!
Новость эта была бы ошеломительной и для здоровой головы.
Целую вечность назад, когда только случилась вся история с переездом в Петербург, с инфарктом Уляшова и с появлением (откуда ни возьмись) Абзалова, Кирилл справлялся у нового научрука о возможности встречи с Дмитрием Александровичем. Иван Галиевич отвечал очень неохотно, кивал на запреты лечащих врачей, обещал что-нибудь узнать «немного позже» и – Кирилл был уверен – не сдержал обещания: потому что «не нужно» и «нецелесообразно», и уж коли решено, что работой аспиранта Чимахина руководит профессор Абзалов, а не профессор Уляшов, то и нечего аспиранту Чимахину лезть к профессору Уляшову в обход профессора Абзалова (тем более что таких прытких юных аспирантов много, а Дмитрий Александрович один и еще не выздоровел). С каждым днем подозрение казалось все более справедливым; очевидно, Ивана Галиевича уязвляло стремление Кирилла увидеть Уляшова – и он специально ничего не делал. Осень сменилась зимой, потом пришел март, апрель, угадывался уже впереди конец учебного года, Абзалов твердил те же самые отговорки («врачи пока запрещают»), и Кирилл совсем перестал надеяться (и только сокрушался иногда: ладно уж, не случилось поработать с Уляшовым, но хотя бы разочек пообщаться, хотя бы за руку разочек поздороваться с великим Д. А. У.).
И вот, оказывается, все совсем по-другому.
Кирилл тут же бросается звонить Абзалову: дорогой Иван Галиевич, да, извините, был занят вчера, да, в библиотеке, занимался, телефон без звука, как здоровье Дмитрия Александровича, так рад, очень рад, долго пришлось ждать, спасибо, Иван Галиевич, а когда можно – ах, прямо сегодня? (Каисса!) Да, разумеется, могу, конечно буду, да, адрес записываю, возле «Алехинской», к шести часам вечера, понял, спасибо, спасибо!
Оу, это ощущение открытых линий, распахнутости мира во все невозможные стороны, когда сбывается что-то настолько долгожданное, что уже почти позабытое.
Однако вслед за волной восторга на голову похмельного Кирилла обрушивается и глубочайшее раскаяние. Ему стыдно: он подозревал Ивана Галиевича в мелких подлостях, и непристойно клеветал в душе, и нафантазировал целую сеть обмана, якобы сплетенную вокруг талантливого аспиранта завистливым профессором, когда на самом деле рядом замечательные, порядочные люди, и Иван Галиевич сдержал обещание, и Дмитрий Александрович не забыл про Кирилла, и только сам Кирилл абсолютно не достоин ни внимания, ни расположения, а еще эта ложь про библиотеку, и зачем соврал, трус, лентяй, только гадкий человек станет думать о других гадко, ах, пьяница-ца!
(Что ж, обычные качели, известные всякому, кто бывал в абстиненции.)
Увлекшись самобичеванием, испытывая смешанное чувство благодарности и вины перед Абзаловым, Кирилл вспоминает чуть ли не все разговоры, которые он вел с Иваном Галиевичем за последние полгода, с нарастающей неловкостью прокручивает их в уме, убеждаясь, как тактичен и обходителен был Абзалов и как глуп, дерзок, местами почти развязен в собственных (еле замаскированных под «вопросы») нападках был сам Кирилл.
Увы, печальная истина, приходится признать.
В беседах на кафедре Кириллу всегда хотелось задеть Ивана Галиевича, уколоть, опровергнуть; выявить якобы «некорректные» мыслительные ходы научрука.
(– Иван Галиевич, а вы ничего не путаете, сам Уляшов так учит? (О, как стыдно Кириллу вспоминать свои речи.) Ну как это может быть, что российская культура «очень молодая», ну ведь это же фактически неверно, два вопросительных знака. Куда вы дели творчество Чигорина, Шифферса, Шумова, Яниша, Петрова? Александр Петров родился в 1799 году, двести восемьдесят лет назад – какая же это «молодая культура»?
А что Абзалов?
Суховато отвечал, что пять человек на весь XIX век – это не культура вовсе, но просто одиночки и чудаки, которые, увы, ничего не изменили и ни на что не повлияли. Чтобы культура стала культурой, она должна набрать некую «критическую массу» – людей, идей, книг, разговоров, интересов; в России такая «критическая масса» была набрана только к 2030-м годам, уже после Переучреждения. Кроме того (строго смотрел на дерзкого аспиранта научрук), знаете ли вы, у скольки процентов населения России в XIX веке имелись дома доски? У трех процентов.
Кирилл шел в библиотеку, что-то искал, готовил новые варианты и опять приступал к Абзалову: «Неточность, дорогой Иван Галиевич! Я осведомился о количестве читателей советского журнала „64“, о тиражах книг Бронштейна и Кереса в шестидесятые годы ХХ века – там сотни тысяч. Возможно, вы правы насчет Петрова и Чигорина – тогда рано было говорить о российской культуре; возможно, даже в эпоху Александра Алехина и Ефима Боголюбова российской культуры не существовало, но по поводу послевоенного СССР нет никаких сомнений. Люди в очередях стояли, чтобы посмотреть матч за звание чемпиона мира, в газетах задачи и этюды отгадывали, играли в парках на каждой скамейке. Вот уж где „критическая масса“. Так что лет сто двадцать нашей культуре точно есть». Иван Галиевич разъяснял: «Лет пятьдесят нашей культуре, дорогой Кирилл, лет пятьдесят, а то, что вы узнали про тиражи книг Бронштейна и Кереса, – просто особенность советской эпохи, тогда все книги, на любые темы, выпускались огромными тиражами. Вам кажется, что многие в СССР интересовались культурой, но если сравнить количество этих „многих“ с количеством тех, кто интересовался, например, спортом или наукой, то станет очевидно, что „многих“ совсем немного. Увы, ничем настоящим там еще не пахло – так, нишевое увлечение, род необязательного хобби, форма досуга, едва заметная большинству».)
Утверждения Абзалова, ссылавшегося на Д. А. У., вызывали у Кирилла сильнейшее недоверие – так как резко противоречили всему, что знал и помнил, о чем читал, к чему с младых ногтей привык сам Кирилл. Может быть, Абзалов неверно понимал Уляшова?
– Иван Галиевич, почему вы говорите, будто бы до Переучреждения культура была незаметна большинству? Памятник Ботвиннику на площади Искусств отлично виден всем. А мое общежитие находится возле станции метро «Спасская», открытой аж в 2009 году, когда о Переучреждении не думали вовсе. И еще масса примеров повсюду.
– Кирилл, памятник Ботвиннику водрузили на пятый год после Переучреждения, до этого там стоял памятник, кажется, погибшему дипломату Грибоедину, а станция метро «Спасская» изначально названа не в честь чемпиона мира Бориса Спасского, но в честь церкви Спаса Всемилостивого, когда-то располагавшейся на месте вестибюля.
– Что же, и мозаика с изображением Бориса Васильевича на входе в вестибюль…
– Добавлена после Переучреждения.
Вероятно, для правильной оценки этой позиции Кириллу требовалось разобраться, почему Абзалов (а значит, и Уляшов) так настойчиво связывал «новейшую российскую культуру» с событием Переучреждения России. На первый взгляд, подобная связь не имела смысла – Переучреждение, произведенное после Кризиса, затронуло только политическую сферу: вопросы территорий, границ, управления страной, новой Конституции и т. д. При чем тут памятник Ботвиннику и переназванная в честь Спасского станция метро?
– Иван Галиевич, ну ладно топонимы, ладно памятники, но ведь культура разлита во всем, люди погружены в нее с раннего детства, с того момента, как начинают слышать речь, как начинают существовать в обществе. Я уж не говорю про школу – там процессы усиливаются стократно: предмет «история шахмат», предмет «теория шахмат», «классики шахмат». Все это бережно и непрерывно воспроизводится десятилетиями: я в пятом классе зубрил наизусть те же самые партии Василия Смыслова, что и мой отец, и мой дед.
– Дорогой Кирилл, вы и ваш отец действительно «зубрили» в пятом классе одни и те же классические образцы – согласно образовательному стандарту, принятому вскоре после Переучреждения именно в целях создания «новейшей российской культуры». А вот в школе времен вашего деда, уверяю, ничего такого еще не было и даже быть не могло.
– Каисса, что же дедушка учил наизусть вместо партий Смыслова?!
* * *
Пренеприятные воспоминания, но хода назад не взять, фигуры не переставить. И все-таки время с сентября по апрель прошло не зря, Кирилл набрался знаний, понимал теперь правоту Ивана Галиевича и уже примерно догадывался о том, как и для чего выстроена система четырех «постулатов Уляшова». А всего через несколько часов в квартире по улице Шумова, 14, он должен был, наконец, увидеть и самого Дмитрия Александровича.
Как раз и голова болеть перестала.
(Путь от «Спасской» до «Алехинской» недолог, хотя и приходится скакать конем через огромные лужи и стремительные реки, в которые каждой весной неизбежно превращаются разбитые улицы города (в Новосибирске шел бы по снежку!). В дырявых ботинках хлюпает вода, пальцы ног отчаянно мерзнут, а пальто, наоборот, слишком теплое, слишком зимнее – да что уж поделать (здесь Кириллу почему-то вспоминаются враки Брянцева про людей, у которых есть целых два пальто: основное и демисезонное). Еще недавно заброшенный и вопиюще бедный, в последние годы Петербург явно облагораживается; Кириллу сравнивать не с чем, но Майя уверяет, что стало больше фонарей и отремонтированных зданий (во всяком случае, на Невском), меньше бродячих собак (в детстве Майю чуть не загрызла дикая свора возле Апраксина двора). Впрочем, говорит Майя восторженно, такие перемены не только в Петербурге, а по всей России. И ладно Майя – она вообще «оптимистка от a до h», но даже Иван Галиевич высказался однажды (вытащив нос из своих пыльных картотек) лирически: мол, завидую вам, Чимахин, на вашу молодость придется новый, поистине волшебный расцвет страны.)
Принципиальный противник теории и практики цейтнота, Кирилл, как обычно, пришел слишком рано – и минут пятнадцать стоял под дверью, не решаясь постучать.
Но вот и 18:00.
Каисса!
На робкий (что твое 1.е3) стук дверь открывается почти сразу, и открывает ее лично Дмитрий Александрович Уляшов (Кирилл легко узнает его, хотя до сих пор видел только на фотографиях) – двухметровый жилистый старик с мощными скулами, носом картошкой и абсолютно седыми волосами (неужели последствия инфаркта? – на известных Кириллу снимках шевелюра Уляшова всегда была черной). «Ага, Чимахин, заходите, – громовым голосом приветствует гостя Уляшов. – Рад спустя столько времени познакомиться с вами. А то, как разноцветные слоны, стоим рядом и никак не встретимся. Вешалка в углу, разуваться не нужно, прямо и налево на кухню. Стул шатается, садитесь на табурет».
Д. А. У. пышет энергией (глаза сияют; ноги не шаркают, но бодро топочут).
(А все говорят – сильно сдал; каким же он был до болезни? – думает Кирилл, снимая пальто. В академических кулуарах иногда рассуждали о «притягательной силе личности» Уляшова, и теперь Кириллу кажется, что эту легендарную притягательность надо объяснять с помощью законов гравитации: просто Уляшов слишком огромный – и притягивает к себе других людей так же, как массивная звезда неизбежно притягивает более легкие небесные тела. (Монументальная внешность Дмитрия Александровича (вот он занимает собой всю тесную кухню, гремит гигантским чайником, достает какую-то посуду) особенно поражает воображение в сравнении с сухим, щуплым, невысоким и как бы не имеющим черт лица Иваном Галиевичем. (Носит ли Абзалов усы? – пытается вспомнить лицо научрука Кирилл; а очки? Кажется, носит (или все-таки не носит?) Хм, ну брови-то были точно?))) На Уляшове какая-то немыслимая, десятки раз залатанная кацавейка и старые домашние тапки, но он все равно выглядит королем, ферзем – и царственно отдает распоряжения.
– Возьмите клетчатую кружку, наливайте себе чай. Не стесняйтесь, побольше заварки (а мне врачи запретили, мне кипяток). Вот рафинад – от университетских щедрот, угощайтесь. Вот лимон. Ну, как идут ваши изыскания по поводу Берлинской стены?
Кирилл собирается ответить, но ответ, кажется, не предполагался.
Уляшов продолжает речь.
– Вы знаете, Кирилл, а ведь в годы моей юности словосочетание «Берлинская стена» ассоциировались у людей вовсе не с вариантом Испанской партии, но с так называемой холодной войной между СССР и США, с настоящей стеной, построенной внутри города Берлина.
– Вот это да, Дмитрий Александрович! Никогда бы не подумал. Хотя…
– Увы, Кирилл, всякая культура тесно связана с политикой, с попытками общества что-то вспомнить или, наоборот, что-то забыть. Вы – один из будущих хранителей нашей культуры и, значит, хранителей общества, хранителей России, вот почему должны очень много знать и еще больше – понимать. Собственно, Абзалов наверняка все это уже говорил вам, но, боюсь, вы до сих пор относитесь к услышанному, скажем так, cum grano salis[2 - Не совсем всерьез (лат.).].
– Что вы, я вовсе…
– Потому я и пригласил вас. Берлинская стена может обождать: на диссертацию отводится целых три года. Сейчас вам куда важнее усвоить ряд ключевых – я бы даже сказал, краеугольных – фактов; фактов, лежащих в основе всей новейшей российской культуры, а значит, и новейшей российской истории, и новейшего российского общества.
Сколько раз Кирилл слышал эти слова от Ивана Галиевича! Теперь их приходится выслушивать от Дмитрия Александровича – но надо же быть вежливым и учтивым.
– Да, разумеется, я полностью…
Кирилл этого не осознаёт, но на самом деле «полностью» ему не удается произнести даже очень короткой фразы. Заведенный «патриархом отечественной гуманитаристики» и «основоположником российской культурологии» монолог неостановим и беспощаден, как мельница Торре. И почему-то предметом монолога оказывается вовсе не Берлинская стена – вообще не шахматы, – но политический Кризис, случившийся с Россией более пятидесяти лет назад. (Неужто старика потянуло на воспоминания о прошедшей молодости?)
– Когда начиналась та история, Кирилл, я был немногим старше вас, – грохочет Уляшов. – События, поведшие к Кризису, довольно скоро стали сравнивать с Крымской войной 1853–1856 годов: Россия захотела подчинить сопредельное, соседнее государство, вроде бы очень слабое и абсолютно неэффективное, развернула армии, начала боевые действия – однако спустя какое-то время выяснилось, что война ведется не только и не столько с соседом, сколько с мощной коалицией передовых западных держав. Ха, конь собирался съесть одинокую пешку, а она вдруг обернулась ферзем. И предполагаемая легкая победа обернулась тяжелейшим поражением. Ну, о причинах той войны вы все знаете – получали высшее образование. А вот последствия наверняка представляете себе гораздо хуже. Это малоизвестно, но сразу после капитуляции ставился вопрос о существовании России как таковой: высказывались мнения, что страну нужно разделить на части, подвергнуть долговременной оккупации и прочее. До подобного, хвала Каиссе, не дошло, но жизнь поменялась радикально. Победители, понятно, сместили Правительство, устроили показательные суды, провели люстрацию. Полностью переписали Конституцию – из президентской республики сделали парламентскую. Заодно перекроили границы. (Все, конечно, для нашего же блага, чтобы не было замороженных на десятилетия конфликтов с соседями, чтобы молодая либеральная российская демократия снова не эволюционировала в тоталитаризм.) Опять же для будущей и во веки веков безопасности организовали демилитаризацию, денуклеаризацию и дедигитализацию: никаких чтобы у нас тут войск, никакого оружия, тем более ядерного (в связи с этим пришлось закрыть и все атомные электростанции, наложить бессрочный мораторий на авиационные полеты и на космические исследования). Мощные компьютеры и новое программное обеспечение запретили полностью, доступ к интернету заблокировали (якобы через интернет Россия могла влиять на выборы в других государствах), внутри страны оставили только небольшие локальные сети. Каково? Впрочем, даже и после этого на Западе так не доверяли русским, что Организация Объединенных Наций установила столетний Карантин, вы в курсе: вот уже полвека, как ни один российский гражданин не имеет права пересекать государственную границу.
В этом месте Кирилл делает попытку сообщить про сокращение сроков Карантина: «А вы знаете, Дмитрий Александрович, буквально позавчера Генассамблея…»
Пить Кирилл не умел; опьянение не доставляло удовольствия, и всего одного бокала цимлянского было достаточно, чтобы голова с утра раскалывалась на части. Но Майя увлекала, Майя манила, и он шел на поводу у желаний подруги – а на следующий день страдал (скрывая эти страдания ото всех). И если бы дело ограничивалось головной болью! Вместе с ней приходили к Кириллу приступы хандры и откровенно мазохистского самокопания, интеллигентских (в плохом смысле слова) мучений и терзаний. Человек совестливый и умеющий анализировать, Кирилл, как выражались его сверстники, «чуял свой гандикап» – понимал привилегированность собственного положения. Множество одноклассников Кирилла давно добывали пропитание тяжелым однообразным трудом; множество однокурсников – вряд ли менее талантливых, но явно менее удачливых – так и не получили шанса всерьез заняться наукой (которую искренне любили). Страна в целом жила бедно и трудно, экономя почти на всем, кое-как сводя концы с концами, избывая наследие Кризиса, выполняя обязательства, взятые на себя в эпоху Переучреждения. И, несмотря на общий оптимизм, владевший гражданами России последние десять лет, лишь немногие могли похвастаться планами, грезами и мечтами; подавляющее большинство населения тратило все силы для простого реагирования на вызовы повседневности.
Впрочем, в это конкретное утро причина горького раскаяния Кирилла оказалась совсем другой. Проснувшись в десятом часу (соседи по комнате, Ян и Толян, давно ушли), он потянулся к телефону и обнаружил два пропущенных вызова и СМС-сообщение от Ивана Галиевича: «Дорогой Кирилл, перезвоните asap. Вас хочет видеть Уляшов».
Ох!
Новость эта была бы ошеломительной и для здоровой головы.
Целую вечность назад, когда только случилась вся история с переездом в Петербург, с инфарктом Уляшова и с появлением (откуда ни возьмись) Абзалова, Кирилл справлялся у нового научрука о возможности встречи с Дмитрием Александровичем. Иван Галиевич отвечал очень неохотно, кивал на запреты лечащих врачей, обещал что-нибудь узнать «немного позже» и – Кирилл был уверен – не сдержал обещания: потому что «не нужно» и «нецелесообразно», и уж коли решено, что работой аспиранта Чимахина руководит профессор Абзалов, а не профессор Уляшов, то и нечего аспиранту Чимахину лезть к профессору Уляшову в обход профессора Абзалова (тем более что таких прытких юных аспирантов много, а Дмитрий Александрович один и еще не выздоровел). С каждым днем подозрение казалось все более справедливым; очевидно, Ивана Галиевича уязвляло стремление Кирилла увидеть Уляшова – и он специально ничего не делал. Осень сменилась зимой, потом пришел март, апрель, угадывался уже впереди конец учебного года, Абзалов твердил те же самые отговорки («врачи пока запрещают»), и Кирилл совсем перестал надеяться (и только сокрушался иногда: ладно уж, не случилось поработать с Уляшовым, но хотя бы разочек пообщаться, хотя бы за руку разочек поздороваться с великим Д. А. У.).
И вот, оказывается, все совсем по-другому.
Кирилл тут же бросается звонить Абзалову: дорогой Иван Галиевич, да, извините, был занят вчера, да, в библиотеке, занимался, телефон без звука, как здоровье Дмитрия Александровича, так рад, очень рад, долго пришлось ждать, спасибо, Иван Галиевич, а когда можно – ах, прямо сегодня? (Каисса!) Да, разумеется, могу, конечно буду, да, адрес записываю, возле «Алехинской», к шести часам вечера, понял, спасибо, спасибо!
Оу, это ощущение открытых линий, распахнутости мира во все невозможные стороны, когда сбывается что-то настолько долгожданное, что уже почти позабытое.
Однако вслед за волной восторга на голову похмельного Кирилла обрушивается и глубочайшее раскаяние. Ему стыдно: он подозревал Ивана Галиевича в мелких подлостях, и непристойно клеветал в душе, и нафантазировал целую сеть обмана, якобы сплетенную вокруг талантливого аспиранта завистливым профессором, когда на самом деле рядом замечательные, порядочные люди, и Иван Галиевич сдержал обещание, и Дмитрий Александрович не забыл про Кирилла, и только сам Кирилл абсолютно не достоин ни внимания, ни расположения, а еще эта ложь про библиотеку, и зачем соврал, трус, лентяй, только гадкий человек станет думать о других гадко, ах, пьяница-ца!
(Что ж, обычные качели, известные всякому, кто бывал в абстиненции.)
Увлекшись самобичеванием, испытывая смешанное чувство благодарности и вины перед Абзаловым, Кирилл вспоминает чуть ли не все разговоры, которые он вел с Иваном Галиевичем за последние полгода, с нарастающей неловкостью прокручивает их в уме, убеждаясь, как тактичен и обходителен был Абзалов и как глуп, дерзок, местами почти развязен в собственных (еле замаскированных под «вопросы») нападках был сам Кирилл.
Увы, печальная истина, приходится признать.
В беседах на кафедре Кириллу всегда хотелось задеть Ивана Галиевича, уколоть, опровергнуть; выявить якобы «некорректные» мыслительные ходы научрука.
(– Иван Галиевич, а вы ничего не путаете, сам Уляшов так учит? (О, как стыдно Кириллу вспоминать свои речи.) Ну как это может быть, что российская культура «очень молодая», ну ведь это же фактически неверно, два вопросительных знака. Куда вы дели творчество Чигорина, Шифферса, Шумова, Яниша, Петрова? Александр Петров родился в 1799 году, двести восемьдесят лет назад – какая же это «молодая культура»?
А что Абзалов?
Суховато отвечал, что пять человек на весь XIX век – это не культура вовсе, но просто одиночки и чудаки, которые, увы, ничего не изменили и ни на что не повлияли. Чтобы культура стала культурой, она должна набрать некую «критическую массу» – людей, идей, книг, разговоров, интересов; в России такая «критическая масса» была набрана только к 2030-м годам, уже после Переучреждения. Кроме того (строго смотрел на дерзкого аспиранта научрук), знаете ли вы, у скольки процентов населения России в XIX веке имелись дома доски? У трех процентов.
Кирилл шел в библиотеку, что-то искал, готовил новые варианты и опять приступал к Абзалову: «Неточность, дорогой Иван Галиевич! Я осведомился о количестве читателей советского журнала „64“, о тиражах книг Бронштейна и Кереса в шестидесятые годы ХХ века – там сотни тысяч. Возможно, вы правы насчет Петрова и Чигорина – тогда рано было говорить о российской культуре; возможно, даже в эпоху Александра Алехина и Ефима Боголюбова российской культуры не существовало, но по поводу послевоенного СССР нет никаких сомнений. Люди в очередях стояли, чтобы посмотреть матч за звание чемпиона мира, в газетах задачи и этюды отгадывали, играли в парках на каждой скамейке. Вот уж где „критическая масса“. Так что лет сто двадцать нашей культуре точно есть». Иван Галиевич разъяснял: «Лет пятьдесят нашей культуре, дорогой Кирилл, лет пятьдесят, а то, что вы узнали про тиражи книг Бронштейна и Кереса, – просто особенность советской эпохи, тогда все книги, на любые темы, выпускались огромными тиражами. Вам кажется, что многие в СССР интересовались культурой, но если сравнить количество этих „многих“ с количеством тех, кто интересовался, например, спортом или наукой, то станет очевидно, что „многих“ совсем немного. Увы, ничем настоящим там еще не пахло – так, нишевое увлечение, род необязательного хобби, форма досуга, едва заметная большинству».)
Утверждения Абзалова, ссылавшегося на Д. А. У., вызывали у Кирилла сильнейшее недоверие – так как резко противоречили всему, что знал и помнил, о чем читал, к чему с младых ногтей привык сам Кирилл. Может быть, Абзалов неверно понимал Уляшова?
– Иван Галиевич, почему вы говорите, будто бы до Переучреждения культура была незаметна большинству? Памятник Ботвиннику на площади Искусств отлично виден всем. А мое общежитие находится возле станции метро «Спасская», открытой аж в 2009 году, когда о Переучреждении не думали вовсе. И еще масса примеров повсюду.
– Кирилл, памятник Ботвиннику водрузили на пятый год после Переучреждения, до этого там стоял памятник, кажется, погибшему дипломату Грибоедину, а станция метро «Спасская» изначально названа не в честь чемпиона мира Бориса Спасского, но в честь церкви Спаса Всемилостивого, когда-то располагавшейся на месте вестибюля.
– Что же, и мозаика с изображением Бориса Васильевича на входе в вестибюль…
– Добавлена после Переучреждения.
Вероятно, для правильной оценки этой позиции Кириллу требовалось разобраться, почему Абзалов (а значит, и Уляшов) так настойчиво связывал «новейшую российскую культуру» с событием Переучреждения России. На первый взгляд, подобная связь не имела смысла – Переучреждение, произведенное после Кризиса, затронуло только политическую сферу: вопросы территорий, границ, управления страной, новой Конституции и т. д. При чем тут памятник Ботвиннику и переназванная в честь Спасского станция метро?
– Иван Галиевич, ну ладно топонимы, ладно памятники, но ведь культура разлита во всем, люди погружены в нее с раннего детства, с того момента, как начинают слышать речь, как начинают существовать в обществе. Я уж не говорю про школу – там процессы усиливаются стократно: предмет «история шахмат», предмет «теория шахмат», «классики шахмат». Все это бережно и непрерывно воспроизводится десятилетиями: я в пятом классе зубрил наизусть те же самые партии Василия Смыслова, что и мой отец, и мой дед.
– Дорогой Кирилл, вы и ваш отец действительно «зубрили» в пятом классе одни и те же классические образцы – согласно образовательному стандарту, принятому вскоре после Переучреждения именно в целях создания «новейшей российской культуры». А вот в школе времен вашего деда, уверяю, ничего такого еще не было и даже быть не могло.
– Каисса, что же дедушка учил наизусть вместо партий Смыслова?!
* * *
Пренеприятные воспоминания, но хода назад не взять, фигуры не переставить. И все-таки время с сентября по апрель прошло не зря, Кирилл набрался знаний, понимал теперь правоту Ивана Галиевича и уже примерно догадывался о том, как и для чего выстроена система четырех «постулатов Уляшова». А всего через несколько часов в квартире по улице Шумова, 14, он должен был, наконец, увидеть и самого Дмитрия Александровича.
Как раз и голова болеть перестала.
(Путь от «Спасской» до «Алехинской» недолог, хотя и приходится скакать конем через огромные лужи и стремительные реки, в которые каждой весной неизбежно превращаются разбитые улицы города (в Новосибирске шел бы по снежку!). В дырявых ботинках хлюпает вода, пальцы ног отчаянно мерзнут, а пальто, наоборот, слишком теплое, слишком зимнее – да что уж поделать (здесь Кириллу почему-то вспоминаются враки Брянцева про людей, у которых есть целых два пальто: основное и демисезонное). Еще недавно заброшенный и вопиюще бедный, в последние годы Петербург явно облагораживается; Кириллу сравнивать не с чем, но Майя уверяет, что стало больше фонарей и отремонтированных зданий (во всяком случае, на Невском), меньше бродячих собак (в детстве Майю чуть не загрызла дикая свора возле Апраксина двора). Впрочем, говорит Майя восторженно, такие перемены не только в Петербурге, а по всей России. И ладно Майя – она вообще «оптимистка от a до h», но даже Иван Галиевич высказался однажды (вытащив нос из своих пыльных картотек) лирически: мол, завидую вам, Чимахин, на вашу молодость придется новый, поистине волшебный расцвет страны.)
Принципиальный противник теории и практики цейтнота, Кирилл, как обычно, пришел слишком рано – и минут пятнадцать стоял под дверью, не решаясь постучать.
Но вот и 18:00.
Каисса!
На робкий (что твое 1.е3) стук дверь открывается почти сразу, и открывает ее лично Дмитрий Александрович Уляшов (Кирилл легко узнает его, хотя до сих пор видел только на фотографиях) – двухметровый жилистый старик с мощными скулами, носом картошкой и абсолютно седыми волосами (неужели последствия инфаркта? – на известных Кириллу снимках шевелюра Уляшова всегда была черной). «Ага, Чимахин, заходите, – громовым голосом приветствует гостя Уляшов. – Рад спустя столько времени познакомиться с вами. А то, как разноцветные слоны, стоим рядом и никак не встретимся. Вешалка в углу, разуваться не нужно, прямо и налево на кухню. Стул шатается, садитесь на табурет».
Д. А. У. пышет энергией (глаза сияют; ноги не шаркают, но бодро топочут).
(А все говорят – сильно сдал; каким же он был до болезни? – думает Кирилл, снимая пальто. В академических кулуарах иногда рассуждали о «притягательной силе личности» Уляшова, и теперь Кириллу кажется, что эту легендарную притягательность надо объяснять с помощью законов гравитации: просто Уляшов слишком огромный – и притягивает к себе других людей так же, как массивная звезда неизбежно притягивает более легкие небесные тела. (Монументальная внешность Дмитрия Александровича (вот он занимает собой всю тесную кухню, гремит гигантским чайником, достает какую-то посуду) особенно поражает воображение в сравнении с сухим, щуплым, невысоким и как бы не имеющим черт лица Иваном Галиевичем. (Носит ли Абзалов усы? – пытается вспомнить лицо научрука Кирилл; а очки? Кажется, носит (или все-таки не носит?) Хм, ну брови-то были точно?))) На Уляшове какая-то немыслимая, десятки раз залатанная кацавейка и старые домашние тапки, но он все равно выглядит королем, ферзем – и царственно отдает распоряжения.
– Возьмите клетчатую кружку, наливайте себе чай. Не стесняйтесь, побольше заварки (а мне врачи запретили, мне кипяток). Вот рафинад – от университетских щедрот, угощайтесь. Вот лимон. Ну, как идут ваши изыскания по поводу Берлинской стены?
Кирилл собирается ответить, но ответ, кажется, не предполагался.
Уляшов продолжает речь.
– Вы знаете, Кирилл, а ведь в годы моей юности словосочетание «Берлинская стена» ассоциировались у людей вовсе не с вариантом Испанской партии, но с так называемой холодной войной между СССР и США, с настоящей стеной, построенной внутри города Берлина.
– Вот это да, Дмитрий Александрович! Никогда бы не подумал. Хотя…
– Увы, Кирилл, всякая культура тесно связана с политикой, с попытками общества что-то вспомнить или, наоборот, что-то забыть. Вы – один из будущих хранителей нашей культуры и, значит, хранителей общества, хранителей России, вот почему должны очень много знать и еще больше – понимать. Собственно, Абзалов наверняка все это уже говорил вам, но, боюсь, вы до сих пор относитесь к услышанному, скажем так, cum grano salis[2 - Не совсем всерьез (лат.).].
– Что вы, я вовсе…
– Потому я и пригласил вас. Берлинская стена может обождать: на диссертацию отводится целых три года. Сейчас вам куда важнее усвоить ряд ключевых – я бы даже сказал, краеугольных – фактов; фактов, лежащих в основе всей новейшей российской культуры, а значит, и новейшей российской истории, и новейшего российского общества.
Сколько раз Кирилл слышал эти слова от Ивана Галиевича! Теперь их приходится выслушивать от Дмитрия Александровича – но надо же быть вежливым и учтивым.
– Да, разумеется, я полностью…
Кирилл этого не осознаёт, но на самом деле «полностью» ему не удается произнести даже очень короткой фразы. Заведенный «патриархом отечественной гуманитаристики» и «основоположником российской культурологии» монолог неостановим и беспощаден, как мельница Торре. И почему-то предметом монолога оказывается вовсе не Берлинская стена – вообще не шахматы, – но политический Кризис, случившийся с Россией более пятидесяти лет назад. (Неужто старика потянуло на воспоминания о прошедшей молодости?)
– Когда начиналась та история, Кирилл, я был немногим старше вас, – грохочет Уляшов. – События, поведшие к Кризису, довольно скоро стали сравнивать с Крымской войной 1853–1856 годов: Россия захотела подчинить сопредельное, соседнее государство, вроде бы очень слабое и абсолютно неэффективное, развернула армии, начала боевые действия – однако спустя какое-то время выяснилось, что война ведется не только и не столько с соседом, сколько с мощной коалицией передовых западных держав. Ха, конь собирался съесть одинокую пешку, а она вдруг обернулась ферзем. И предполагаемая легкая победа обернулась тяжелейшим поражением. Ну, о причинах той войны вы все знаете – получали высшее образование. А вот последствия наверняка представляете себе гораздо хуже. Это малоизвестно, но сразу после капитуляции ставился вопрос о существовании России как таковой: высказывались мнения, что страну нужно разделить на части, подвергнуть долговременной оккупации и прочее. До подобного, хвала Каиссе, не дошло, но жизнь поменялась радикально. Победители, понятно, сместили Правительство, устроили показательные суды, провели люстрацию. Полностью переписали Конституцию – из президентской республики сделали парламентскую. Заодно перекроили границы. (Все, конечно, для нашего же блага, чтобы не было замороженных на десятилетия конфликтов с соседями, чтобы молодая либеральная российская демократия снова не эволюционировала в тоталитаризм.) Опять же для будущей и во веки веков безопасности организовали демилитаризацию, денуклеаризацию и дедигитализацию: никаких чтобы у нас тут войск, никакого оружия, тем более ядерного (в связи с этим пришлось закрыть и все атомные электростанции, наложить бессрочный мораторий на авиационные полеты и на космические исследования). Мощные компьютеры и новое программное обеспечение запретили полностью, доступ к интернету заблокировали (якобы через интернет Россия могла влиять на выборы в других государствах), внутри страны оставили только небольшие локальные сети. Каково? Впрочем, даже и после этого на Западе так не доверяли русским, что Организация Объединенных Наций установила столетний Карантин, вы в курсе: вот уже полвека, как ни один российский гражданин не имеет права пересекать государственную границу.
В этом месте Кирилл делает попытку сообщить про сокращение сроков Карантина: «А вы знаете, Дмитрий Александрович, буквально позавчера Генассамблея…»