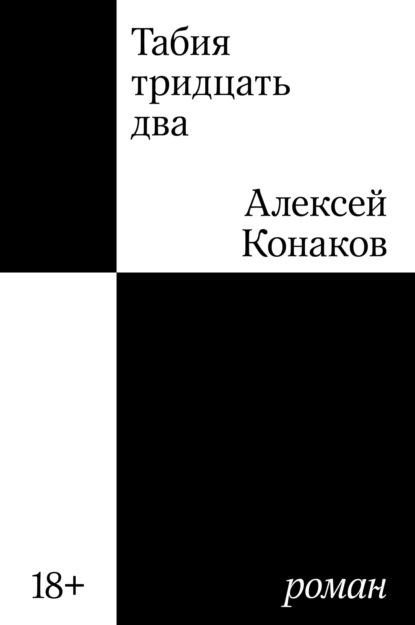По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Табия тридцать два
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Табия тридцать два
Алексей Конаков
Individuum
2081 год. После катастрофы страна была изолирована от внешнего мира.
Русскую литературу, объявленную источником всех бед, заменили шахматами, а вместо романов Толстого, Достоевского и Тургенева в школах и университетах штудируют партии Карпова, Спасского и Ботвинника. Кирилл изучает историю шахмат в аспирантуре, влюбляется, ревнует и живет жизнью вполне обыкновенного молодого человека – до тех пор, пока череда внезапных открытий не ставит под угрозу все его представления о мире. «Табия тридцать два» Алексея Конакова – это и фантасмагорический роман-головоломка о роковых узорах судьбы, и остроумный языковой эксперимент по отмене имперского мышления, и захватывающая антиутопия о попытках раз и навсегда решить вопрос, как нам обустроить Россию.
Алексей Конаков – литературный критик, эссеист, поэт, независимый исследователь позднесоветской культуры, лауреат премии Андрея Белого, соучредитель премии имени Леона Богданова.
Алексей Конаков
Табия тридцать два
© А. Конаков, 2024
© ООО «Индивидуум Принт», 2024
* * *
* * *
Вместо неухоженного города, разоренной страны, холодной весны; вместо тайно движущихся материковых плит, летящих из космоса элементарных частиц, вспыхивающих звезд и вращающихся планет; вместо самой бесконечной Вселенной – было одно счастье.
Счастливый, Кирилл выходил из дома, глядел на часы, спешил на трамвай.
Счастливый, забывал читать специально взятую («трамвайную») книгу.
Счастливый, искал огонек в том окне близ Петровской набережной.
Вскачь на третий этаж с бутылкой вина (прекрасный букет, скажет потом Майя), все плывет и катится перед глазами; паролем – легкий стук в дверь, отзывом – поцелуй.
Поцелуи.
(Ою-ею, молодые страсти, потолок покрасьте, давай сначала ты сверху, а потом рокируемся, улыбки, съедаемые вместе с поцелуями, хитрые комбинации, долгие маневры, тихие ходы, плеск вина (дешевого, дрянного на самом деле), что теперь, финальная перемена положения, в эндшпиле, учил доктор Тарраш, обязательно ставьте ладью сзади пешки, не опоздать бы на пары, но сколько же у тебя сил! Затем курить (тоже дешевые, дрянные папироски). Лежа на клетчатом покрывале, болтать о любом, о всяком.)
– В следующую пятницу день рождения Ноны, пойдем? – спрашивает она.
– Можно, да! Хотя пока не уверен. У Ноны, наверное, будет Андрей?
– Эм-м, Брянцев?
Ах, опять Брянцев! Брянцев раздражает Кирилла, и Майя это знает, и каждый раз пытается как-то засушить позицию, уверяя, что сама с трудом выносит Брянцева; но эффекта от ее слов немного. Ты с ним так запросто ведешь себя, словно он твой близкий друг, говорит Кирилл и добавляет, помолчав: хотя ты и со всеми общаешься просто.
– Только не с Брянцевым. Он груб и чудовищный невежда, и никакой не лучший друг, тут неточность, я его видела-то в жизни два-три раза, наверное, все у Ноны. Меня, наоборот, страшно сердят именно такие люди, как Андрей, поверхностные, и особенно если глупо бравируют этим. Ну пусть бравирует! Вот только о чем с ним говорить, когда он Шлехтера от Шпильмана не отличает (не буквально, конечно, но ты понимаешь)?
– Да? А мне кажется, у него рождаются иногда оригинальные мысли.
– Ха, так, может быть, ты сам увлечен Брянцевым, а приписываешь мне?
– Спасибо, я счастлив только с тобой.
Сколько лет было этому счастью? – от силы полгода – и оно длилось пока, не думало завершаться, хотя и помимо счастья возникали вдруг дела, вырастали заботы – требовали внимания, решения; требовали трат и усилий (и смертной скуки порой). Что же, студенткам, как Майя, так и надобно наслаждаться жизнью, но аспирантам, как Кирилл, уже следует обретать серьезность, носить документы по кабинетам (и очки на носу).
Так какая у вас тема, коллега?
Темой была «история Берлинской стены», и именно благодаря своим (студенческим еще) исследованиям этой темы Кирилл переехал прошлой осенью в Петербург – из родного Новосибирска. (Ах, Новосибирск, восхищалась Майя и расспрашивала иногда о жизни Академгородка («Там правда тайга вместо центральной площади и профессора катаются на лыжах?»), но Кирилл мало что мог ей рассказать. Я болел постоянно, говорил Кирилл (голосом почти виноватым), никаких лыж поэтому, и на коньках не умею. Только читал целыми днями (ночами), остановиться не мог, а у отца хорошая библиотека; сначала изучил книжки Суэтина и Нейштадта, потом принялся за собрания сочинений классиков.) Так складывалась партия; талантливый юноша мог остаться в родном НГУ (местная кафедра истории с каждым днем расцветала все краше), звали его писать диссертацию и в МГУ, в Москву, но он выбрал Петербург – и все отлично понимали почему.
Из-за профессора Уляшова, разумеется.
Имя Дмитрия Александровича Уляшова было овеяно легендами; в академических сферах оно произносилось с придыханием и добавлением непременных титулов: «патриарх отечественной гуманитаристики», «основоположник российской культурологии». Если верить слухам, великолепный взлет Уляшова начался в первые годы Переучреждения, когда его – молодого исследователя, занимавшегося композиторами Российской империи и СССР (Троицким, Куббелем, братьями Платовыми), – неожиданно привлекли к работе в Правительстве страны. Задача, поставленная перед Уляшовым, заключалась ни много ни мало в «корректировке», как тогда выражались, «культурного кода россиян». И Уляшов справился блестяще. Он разработал общую концепцию «новейшей культуры», детальную «дорожную карту», лично контролировал ход реформ – и с тех пор стал считаться одним из отцов-основателей посткризисной России. На кафедре шептались, что, хотя Дмитрий Александрович и вернулся потом из Правительства в университетскую твердыню СПбГУ, связи профессора с высшим политическим руководством по-прежнему крепки, а в записной книжке имеются телефонные номера как минимум четырех премьер-министров.
То, что такой человек на девятом десятке продолжал набирать аспирантов, само по себе казалось фантастикой. И уж явной фантастикой был тот факт, что Уляшов прочитал две статьи Кирилла о Берлинской стене и – по-видимому, найдя в них что-то небезынтересное, – предложил ошеломленному юноше свое научное руководство.
Кто бы тут раздумывал?
Так Кирилл отправился в Петербург, где его оформили в аспирантуру СПбГУ («с предоставлением К. Г. Чимахину талонов на питание и места в общежитии») и где он планировал провести три ближайших года в утонченных беседах и искусных спорах с мэтром. Увы, буквально за неделю до приезда Кирилла Уляшов угодил в больницу с инфарктом миокарда. Реабилитация обещала растянуться на неопределенно долгое время; volens nolens пришлось искать другого руководителя, которым в итоге стал Иван Галиевич Абзалов – тоже профессор, доктор наук и один из лучших учеников Уляшова.
Научрук Абзалов – это было прекрасно; это было почетно; это было интересно и многообещающе; и это было совершенно не то, о чем успел размечтаться Кирилл.
То ли Иван Галиевич чувствовал разочарование Кирилла (и это разочарование его задевало), то ли не очень интересовался именно Берлинской стеной, то ли ему просто недоставало личного обаяния и харизмы, но Кириллу казались невероятно скучными разговоры с этим непрошеным руководителем, и он охотно жаловался Майе на сухость, холодность, ограниченность и даже «узколобость и замшелость» Абзалова. (Э-э, почтенные старцы, берегитесь обманутой в ожиданиях молодежи. Она возведет на вас и не такую напраслину. Кирилл был явно несправедлив к Ивану Галиевичу, который пусть и вправду чуть скучно, но аккуратно и доброжелательно знакомил аспиранта с тайнами исторической науки. Берлинская стена действительно могла обождать (на диссертацию как-никак отводилось три года). Куда важнее было разъяснить юному исследователю ряд ключевых, краеугольных фактов – фактов, лежащих в основе всей новейшей российской культуры (а значит, и новейшей российской истории, и новейшего российского общества); фактов вроде бы хорошо известных, но на самом деле почти позабытых, затертых до неузнаваемости за пять с лишним десятилетий, прошедших с Переучреждения; фактов, четкого осознания которых требовал от учеников и аспирантов Дмитрий Александрович Уляшов. Абзалов установочные речи учителя помнил чуть ли не наизусть – и передавал их Кириллу практически такими же, какими сам услышал от Уляшова четверть века назад.
В принципе информация не была сложной; для удобства и доходчивости Дмитрий Александрович представлял свою культурно-историческую концепцию в виде четырех коротких утверждений – так называемых постулатов Уляшова. Первый (самый дерзкий) постулат гласил, что именно «новейшая российская культура» лежит в основе настоящего и будущего процветания России. Второй (самый неочевидный) постулат заявлял, что эта «новейшая российская культура» гораздо более молода и более хрупка, чем кажется. Из второго постулата следовали третий (предостерегающий: любые исследования «новейшей российской культуры» должны вестись таким образом, чтобы случайно не нанести ей, слишком еще нежной и слабой, непоправимого вреда) и четвертый (консервативный: исследователи являются не только исследователями, но, что гораздо важнее, также и хранителями «новейшей российской культуры»). (На последнем постулате Уляшов, как правило, впадал в торжественный пафос и произносил длинные вдохновенные монологи, завершающиеся внезапным выводом о том, что ученые всех гуманитарных кафедр страны образуют своего рода тайное «братство посвященных», цель которого – буквально «оберегать Россию». Иван Галиевич Абзалов по складу характера не был способен на такие речи (успешно подменяющие аргументацию риторикой), и у Кирилла возникала масса вопросов: почему культура «молода»? почему «хрупка»?
И что такое страшное угрожает России?
Абзалов довольно подробно (и довольно скучно) отвечал Кириллу, рисовал схемы, ссылался, заглядывая в необъятную картотеку, на какие-то статьи и подчеркивал, что «постулаты Уляшова образуют связную и логичную систему, позволяющую описывать положение дел в культуре». Но в чем суть системы – так и оставалось неясным.)
Здесь размышляющего Кирилла приводит в себя легкий удар подушкой.
Ах, говорит Майя, из-за твоих жалоб на Абзалова я чуть не забыла сообщить самую главную новость! Кирилл замолкает, глядя на подругу (тишина; только счастье звенит в ушах). Новость, продолжает Майя восторженно, такая: папа рассказал вчера вечером, вышла новая резолюция ООН по России, там отмечаются всяческие успехи страны, и благоприятный прогноз, и… решение снять Карантин на пять лет раньше! Каисса, Каисса! Вот это восклицательный знак! Я так обрадовалась! ООН уже второй раз за пятнадцать лет уменьшает срок. Если они продолжат такими темпами, открытие состоится до конца XXI века. Представь, мы еще сможем увидеть весь остальной мир. О, Кирилл, а если бы Карантин сняли прямо сейчас и у тебя были бы деньги, много-много денег, куда бы ты поехал? Кирилл улыбается: я всегда мечтал увидеть Вейк-ан-Зее. А ты?
– А я бы в Линарес!
– Оу! Да!
Он целует ее, она его, и они замирают, на миг задумавшись, обнимая друг друга, шепча вместе легкое, ласковое, одно на двоих невозможное слово «Линарес», и потом смеются, и пьют вино, и забираются глубже под многоугольное одеяло (столько раз перешитое Майей), и опять начинают какое-то хитрое маневрирование; а на мобильном телефоне Кирилла отключен звук, и Кирилл не знает, что ему уже два раза звонил Абзалов.
* * *
Все двадцать (с небольшим) лет своей жизни Кирилл был человеком крайне болезненным; как следствие – домашним; потому – целомудренным. Книжный мальчик с томиками Марка Дворецкого подмышкой, к пряным «зрелым» удовольствиям он начал приобщаться, только переехав в Петербург. Собственно, Майя (рассеянная, веселая Майя) стала его первой женщиной, и тайны ars amandi[1 - Искусство любви (лат.).], открытые ею ему, потрясли Кирилла.
Подобно тысячам тысяч других книжных мальчиков во все времена, Кирилл совершенно не мог понять, какие достоинства находила в нем – нелепом и нескладном провинциале – блестящая столичная девушка. Вероятно, именно поэтому он регулярно (и во всех подробностях) вспоминал обстоятельства своей с Майей встречи – словно бы надеясь отыскать в той первосцене ответы на все вопросы. Ретроанализ (раскручивание назад цепочки сделанных ходов) позволял прийти к выводу, что благодарить за нечаянную радость знакомства следует a) сухаря Абзалова и b) отвратительный петербургский климат. Дело было в ноябре, который выдался чрезвычайно промозглым; на кафедре, как обычно, почти не топили, по коридорам и кабинетам гуляли страшные сквозняки. В таких условиях преподаватели спешили разбежаться сразу по окончании лекций, манкируя бумажной работой, и только Иван Галиевич никуда не уходил, педантично отбывал присутственные часы и разбирал содержимое огромных картотек – в результате чего довольно скоро слег с простудой. Заменяя Абзалова, Кирилл вынужден был провести несколько занятий спецкурса по гипермодернизму. Гипермодернизм Кирилла почти не интересовал, но именно на этот спецкурс пришла однажды Майя, собиравшаяся писать диплом о Дьюле Брейере.
Вот тогда и соединились линии, совпали варианты.
(Ничего нового не узнала о Брейере, зато очень многое о Чимахине, – смеялась Майя, лежа в постели. Хвала гипермодернистам, – отвечал в тон Кирилл, – а еще арктическим воздушным массам, режиму строгой экономии топлива и слабому иммунитету Ивана, дай бог ему здоровья, Галиевича!) Эта «гипермодернистская» подкладка встречи немного успокаивала Кирилла; пусть он, тощий, лохматый, чуть косящий глазами, и весной и осенью кутающийся в одну бесформенную кофту, скрывающий застенчивость за излишней горячностью, выглядит рядом с Майей (настоящей красавицей, умеющей очаровывать людей) персонажем почти карикатурным – построения гипермодернистов тоже когда-то выглядели почти карикатурными, но в итоге оказались вполне жизнеспособны.
Впрочем, продолжая сравнение с гипермодернистами, приходилось признать за ними два значительных преимущества – насколько известно, они, отстаивая собственные позиции, никогда не мучились a) ревностью и b) похмельем. Легкий и рассеянный нрав Майи, ее воздушная общительность причиняли Кириллу множество жесточайших мук (хотя он изо всех сил старался удавить в себе ревнивца); хуже того: злые языки называли причиной такой легкости и рассеянности любовь Майи к алкоголю – что, разумеется, было совершенной неправдой, хотя Майя и ценила сухое (и полусладкое) красное (и белое) вино и, вообще говоря, являлась главной наставницей Кирилла и в этих забавах тоже.
Алексей Конаков
Individuum
2081 год. После катастрофы страна была изолирована от внешнего мира.
Русскую литературу, объявленную источником всех бед, заменили шахматами, а вместо романов Толстого, Достоевского и Тургенева в школах и университетах штудируют партии Карпова, Спасского и Ботвинника. Кирилл изучает историю шахмат в аспирантуре, влюбляется, ревнует и живет жизнью вполне обыкновенного молодого человека – до тех пор, пока череда внезапных открытий не ставит под угрозу все его представления о мире. «Табия тридцать два» Алексея Конакова – это и фантасмагорический роман-головоломка о роковых узорах судьбы, и остроумный языковой эксперимент по отмене имперского мышления, и захватывающая антиутопия о попытках раз и навсегда решить вопрос, как нам обустроить Россию.
Алексей Конаков – литературный критик, эссеист, поэт, независимый исследователь позднесоветской культуры, лауреат премии Андрея Белого, соучредитель премии имени Леона Богданова.
Алексей Конаков
Табия тридцать два
© А. Конаков, 2024
© ООО «Индивидуум Принт», 2024
* * *
* * *
Вместо неухоженного города, разоренной страны, холодной весны; вместо тайно движущихся материковых плит, летящих из космоса элементарных частиц, вспыхивающих звезд и вращающихся планет; вместо самой бесконечной Вселенной – было одно счастье.
Счастливый, Кирилл выходил из дома, глядел на часы, спешил на трамвай.
Счастливый, забывал читать специально взятую («трамвайную») книгу.
Счастливый, искал огонек в том окне близ Петровской набережной.
Вскачь на третий этаж с бутылкой вина (прекрасный букет, скажет потом Майя), все плывет и катится перед глазами; паролем – легкий стук в дверь, отзывом – поцелуй.
Поцелуи.
(Ою-ею, молодые страсти, потолок покрасьте, давай сначала ты сверху, а потом рокируемся, улыбки, съедаемые вместе с поцелуями, хитрые комбинации, долгие маневры, тихие ходы, плеск вина (дешевого, дрянного на самом деле), что теперь, финальная перемена положения, в эндшпиле, учил доктор Тарраш, обязательно ставьте ладью сзади пешки, не опоздать бы на пары, но сколько же у тебя сил! Затем курить (тоже дешевые, дрянные папироски). Лежа на клетчатом покрывале, болтать о любом, о всяком.)
– В следующую пятницу день рождения Ноны, пойдем? – спрашивает она.
– Можно, да! Хотя пока не уверен. У Ноны, наверное, будет Андрей?
– Эм-м, Брянцев?
Ах, опять Брянцев! Брянцев раздражает Кирилла, и Майя это знает, и каждый раз пытается как-то засушить позицию, уверяя, что сама с трудом выносит Брянцева; но эффекта от ее слов немного. Ты с ним так запросто ведешь себя, словно он твой близкий друг, говорит Кирилл и добавляет, помолчав: хотя ты и со всеми общаешься просто.
– Только не с Брянцевым. Он груб и чудовищный невежда, и никакой не лучший друг, тут неточность, я его видела-то в жизни два-три раза, наверное, все у Ноны. Меня, наоборот, страшно сердят именно такие люди, как Андрей, поверхностные, и особенно если глупо бравируют этим. Ну пусть бравирует! Вот только о чем с ним говорить, когда он Шлехтера от Шпильмана не отличает (не буквально, конечно, но ты понимаешь)?
– Да? А мне кажется, у него рождаются иногда оригинальные мысли.
– Ха, так, может быть, ты сам увлечен Брянцевым, а приписываешь мне?
– Спасибо, я счастлив только с тобой.
Сколько лет было этому счастью? – от силы полгода – и оно длилось пока, не думало завершаться, хотя и помимо счастья возникали вдруг дела, вырастали заботы – требовали внимания, решения; требовали трат и усилий (и смертной скуки порой). Что же, студенткам, как Майя, так и надобно наслаждаться жизнью, но аспирантам, как Кирилл, уже следует обретать серьезность, носить документы по кабинетам (и очки на носу).
Так какая у вас тема, коллега?
Темой была «история Берлинской стены», и именно благодаря своим (студенческим еще) исследованиям этой темы Кирилл переехал прошлой осенью в Петербург – из родного Новосибирска. (Ах, Новосибирск, восхищалась Майя и расспрашивала иногда о жизни Академгородка («Там правда тайга вместо центральной площади и профессора катаются на лыжах?»), но Кирилл мало что мог ей рассказать. Я болел постоянно, говорил Кирилл (голосом почти виноватым), никаких лыж поэтому, и на коньках не умею. Только читал целыми днями (ночами), остановиться не мог, а у отца хорошая библиотека; сначала изучил книжки Суэтина и Нейштадта, потом принялся за собрания сочинений классиков.) Так складывалась партия; талантливый юноша мог остаться в родном НГУ (местная кафедра истории с каждым днем расцветала все краше), звали его писать диссертацию и в МГУ, в Москву, но он выбрал Петербург – и все отлично понимали почему.
Из-за профессора Уляшова, разумеется.
Имя Дмитрия Александровича Уляшова было овеяно легендами; в академических сферах оно произносилось с придыханием и добавлением непременных титулов: «патриарх отечественной гуманитаристики», «основоположник российской культурологии». Если верить слухам, великолепный взлет Уляшова начался в первые годы Переучреждения, когда его – молодого исследователя, занимавшегося композиторами Российской империи и СССР (Троицким, Куббелем, братьями Платовыми), – неожиданно привлекли к работе в Правительстве страны. Задача, поставленная перед Уляшовым, заключалась ни много ни мало в «корректировке», как тогда выражались, «культурного кода россиян». И Уляшов справился блестяще. Он разработал общую концепцию «новейшей культуры», детальную «дорожную карту», лично контролировал ход реформ – и с тех пор стал считаться одним из отцов-основателей посткризисной России. На кафедре шептались, что, хотя Дмитрий Александрович и вернулся потом из Правительства в университетскую твердыню СПбГУ, связи профессора с высшим политическим руководством по-прежнему крепки, а в записной книжке имеются телефонные номера как минимум четырех премьер-министров.
То, что такой человек на девятом десятке продолжал набирать аспирантов, само по себе казалось фантастикой. И уж явной фантастикой был тот факт, что Уляшов прочитал две статьи Кирилла о Берлинской стене и – по-видимому, найдя в них что-то небезынтересное, – предложил ошеломленному юноше свое научное руководство.
Кто бы тут раздумывал?
Так Кирилл отправился в Петербург, где его оформили в аспирантуру СПбГУ («с предоставлением К. Г. Чимахину талонов на питание и места в общежитии») и где он планировал провести три ближайших года в утонченных беседах и искусных спорах с мэтром. Увы, буквально за неделю до приезда Кирилла Уляшов угодил в больницу с инфарктом миокарда. Реабилитация обещала растянуться на неопределенно долгое время; volens nolens пришлось искать другого руководителя, которым в итоге стал Иван Галиевич Абзалов – тоже профессор, доктор наук и один из лучших учеников Уляшова.
Научрук Абзалов – это было прекрасно; это было почетно; это было интересно и многообещающе; и это было совершенно не то, о чем успел размечтаться Кирилл.
То ли Иван Галиевич чувствовал разочарование Кирилла (и это разочарование его задевало), то ли не очень интересовался именно Берлинской стеной, то ли ему просто недоставало личного обаяния и харизмы, но Кириллу казались невероятно скучными разговоры с этим непрошеным руководителем, и он охотно жаловался Майе на сухость, холодность, ограниченность и даже «узколобость и замшелость» Абзалова. (Э-э, почтенные старцы, берегитесь обманутой в ожиданиях молодежи. Она возведет на вас и не такую напраслину. Кирилл был явно несправедлив к Ивану Галиевичу, который пусть и вправду чуть скучно, но аккуратно и доброжелательно знакомил аспиранта с тайнами исторической науки. Берлинская стена действительно могла обождать (на диссертацию как-никак отводилось три года). Куда важнее было разъяснить юному исследователю ряд ключевых, краеугольных фактов – фактов, лежащих в основе всей новейшей российской культуры (а значит, и новейшей российской истории, и новейшего российского общества); фактов вроде бы хорошо известных, но на самом деле почти позабытых, затертых до неузнаваемости за пять с лишним десятилетий, прошедших с Переучреждения; фактов, четкого осознания которых требовал от учеников и аспирантов Дмитрий Александрович Уляшов. Абзалов установочные речи учителя помнил чуть ли не наизусть – и передавал их Кириллу практически такими же, какими сам услышал от Уляшова четверть века назад.
В принципе информация не была сложной; для удобства и доходчивости Дмитрий Александрович представлял свою культурно-историческую концепцию в виде четырех коротких утверждений – так называемых постулатов Уляшова. Первый (самый дерзкий) постулат гласил, что именно «новейшая российская культура» лежит в основе настоящего и будущего процветания России. Второй (самый неочевидный) постулат заявлял, что эта «новейшая российская культура» гораздо более молода и более хрупка, чем кажется. Из второго постулата следовали третий (предостерегающий: любые исследования «новейшей российской культуры» должны вестись таким образом, чтобы случайно не нанести ей, слишком еще нежной и слабой, непоправимого вреда) и четвертый (консервативный: исследователи являются не только исследователями, но, что гораздо важнее, также и хранителями «новейшей российской культуры»). (На последнем постулате Уляшов, как правило, впадал в торжественный пафос и произносил длинные вдохновенные монологи, завершающиеся внезапным выводом о том, что ученые всех гуманитарных кафедр страны образуют своего рода тайное «братство посвященных», цель которого – буквально «оберегать Россию». Иван Галиевич Абзалов по складу характера не был способен на такие речи (успешно подменяющие аргументацию риторикой), и у Кирилла возникала масса вопросов: почему культура «молода»? почему «хрупка»?
И что такое страшное угрожает России?
Абзалов довольно подробно (и довольно скучно) отвечал Кириллу, рисовал схемы, ссылался, заглядывая в необъятную картотеку, на какие-то статьи и подчеркивал, что «постулаты Уляшова образуют связную и логичную систему, позволяющую описывать положение дел в культуре». Но в чем суть системы – так и оставалось неясным.)
Здесь размышляющего Кирилла приводит в себя легкий удар подушкой.
Ах, говорит Майя, из-за твоих жалоб на Абзалова я чуть не забыла сообщить самую главную новость! Кирилл замолкает, глядя на подругу (тишина; только счастье звенит в ушах). Новость, продолжает Майя восторженно, такая: папа рассказал вчера вечером, вышла новая резолюция ООН по России, там отмечаются всяческие успехи страны, и благоприятный прогноз, и… решение снять Карантин на пять лет раньше! Каисса, Каисса! Вот это восклицательный знак! Я так обрадовалась! ООН уже второй раз за пятнадцать лет уменьшает срок. Если они продолжат такими темпами, открытие состоится до конца XXI века. Представь, мы еще сможем увидеть весь остальной мир. О, Кирилл, а если бы Карантин сняли прямо сейчас и у тебя были бы деньги, много-много денег, куда бы ты поехал? Кирилл улыбается: я всегда мечтал увидеть Вейк-ан-Зее. А ты?
– А я бы в Линарес!
– Оу! Да!
Он целует ее, она его, и они замирают, на миг задумавшись, обнимая друг друга, шепча вместе легкое, ласковое, одно на двоих невозможное слово «Линарес», и потом смеются, и пьют вино, и забираются глубже под многоугольное одеяло (столько раз перешитое Майей), и опять начинают какое-то хитрое маневрирование; а на мобильном телефоне Кирилла отключен звук, и Кирилл не знает, что ему уже два раза звонил Абзалов.
* * *
Все двадцать (с небольшим) лет своей жизни Кирилл был человеком крайне болезненным; как следствие – домашним; потому – целомудренным. Книжный мальчик с томиками Марка Дворецкого подмышкой, к пряным «зрелым» удовольствиям он начал приобщаться, только переехав в Петербург. Собственно, Майя (рассеянная, веселая Майя) стала его первой женщиной, и тайны ars amandi[1 - Искусство любви (лат.).], открытые ею ему, потрясли Кирилла.
Подобно тысячам тысяч других книжных мальчиков во все времена, Кирилл совершенно не мог понять, какие достоинства находила в нем – нелепом и нескладном провинциале – блестящая столичная девушка. Вероятно, именно поэтому он регулярно (и во всех подробностях) вспоминал обстоятельства своей с Майей встречи – словно бы надеясь отыскать в той первосцене ответы на все вопросы. Ретроанализ (раскручивание назад цепочки сделанных ходов) позволял прийти к выводу, что благодарить за нечаянную радость знакомства следует a) сухаря Абзалова и b) отвратительный петербургский климат. Дело было в ноябре, который выдался чрезвычайно промозглым; на кафедре, как обычно, почти не топили, по коридорам и кабинетам гуляли страшные сквозняки. В таких условиях преподаватели спешили разбежаться сразу по окончании лекций, манкируя бумажной работой, и только Иван Галиевич никуда не уходил, педантично отбывал присутственные часы и разбирал содержимое огромных картотек – в результате чего довольно скоро слег с простудой. Заменяя Абзалова, Кирилл вынужден был провести несколько занятий спецкурса по гипермодернизму. Гипермодернизм Кирилла почти не интересовал, но именно на этот спецкурс пришла однажды Майя, собиравшаяся писать диплом о Дьюле Брейере.
Вот тогда и соединились линии, совпали варианты.
(Ничего нового не узнала о Брейере, зато очень многое о Чимахине, – смеялась Майя, лежа в постели. Хвала гипермодернистам, – отвечал в тон Кирилл, – а еще арктическим воздушным массам, режиму строгой экономии топлива и слабому иммунитету Ивана, дай бог ему здоровья, Галиевича!) Эта «гипермодернистская» подкладка встречи немного успокаивала Кирилла; пусть он, тощий, лохматый, чуть косящий глазами, и весной и осенью кутающийся в одну бесформенную кофту, скрывающий застенчивость за излишней горячностью, выглядит рядом с Майей (настоящей красавицей, умеющей очаровывать людей) персонажем почти карикатурным – построения гипермодернистов тоже когда-то выглядели почти карикатурными, но в итоге оказались вполне жизнеспособны.
Впрочем, продолжая сравнение с гипермодернистами, приходилось признать за ними два значительных преимущества – насколько известно, они, отстаивая собственные позиции, никогда не мучились a) ревностью и b) похмельем. Легкий и рассеянный нрав Майи, ее воздушная общительность причиняли Кириллу множество жесточайших мук (хотя он изо всех сил старался удавить в себе ревнивца); хуже того: злые языки называли причиной такой легкости и рассеянности любовь Майи к алкоголю – что, разумеется, было совершенной неправдой, хотя Майя и ценила сухое (и полусладкое) красное (и белое) вино и, вообще говоря, являлась главной наставницей Кирилла и в этих забавах тоже.