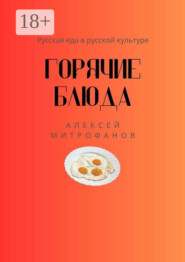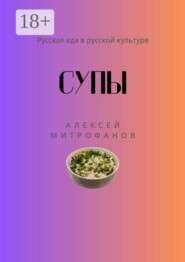По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ордынка. Прогулки по старой Москве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Производство развивалось. К революции на листовском заводе насчитывалось 1600 рабочих. Очень кстати были именно заказы от военных – вовсю шла Первая мировая. А вот революция пришлась совсем не кстати – завод национализировали.
Кстати, сами рабочие этому в свое время способствовали – в 1899 году здесь распространялась первомайская листовка, написанная не кем-нибудь, а будущим наркомом просвещения Луначарским. А в революцию рабочие и вовсе присоединились к армии восставших. Первый советский директор завода писал: «В 1917 году завод Г. Листа насчитывал около 1600 рабочих, причем большинство членов партии были твердыми большевиками. Замоскворецкий РК РСДРП (б) командировал сюда политическим руководителем К. В. Островитянова, впоследствии академика. Стратегическое положение завода напротив Кремля – центра сопротивления белогвардейцев – диктовало тактику боя. Заводское вооруженное формирование под руководством Н. В. Федорова держало оборону Москворецкого моста и набережных Замоскворечья. После удачного прорыва на левую сторону Москвы-реки ожесточенные бои развернулись на Остоженке за Провиантские склады».
Словно желая отыграться за два предыдущих пафосных названия, заводу дали имя весьма скромное: «Завод №5». Правда, потом его переименовали в «Гидрофильтр», а затем и в «Красный факел».
* * *
Кстати, иной раз завод, помимо воли, участвовал в жизни соседней школы. Уже упомянутый М. Коршунов писал: «Наша староста Зина Таранова сломала ногу. На классном собрании нежданно-негаданно кто-то выкликнул меня на должность временно исполняющего обязанности старосты. Очевидно, в этот обольстительный момент во мне шевельнулось тщеславие, дало свой каверзный дурманящий росток, и я принял высокий пост, как говорится, без всякой ложной скромности. А Левка был в панике: он прекрасно понимал, что ни я, ни Олег, ни сам он не созданы для администрирования. Уже на ближайшем уроке немецкого языка возник скандал – уж очень мы не любили эту учительницу. Кличка – Спица. «…Истеричная, крикливая, злобная и придирчивая бестия». Это о ней Лева. А это – Юра: «Пишу я, бешенством объятый, немецкий – жизненный дефект. О будь вы сотни раз прокляты – Футурум, Презенс и Префект».
– Где ваш авторитет? – грозно обратилась ко мне Спица. – Класс разболтался, вышел у вас из подчинения. Сплошные безобразия! Keine Ordnung (Нет порядка).
Потом неожиданно загудел завод «Красный факел», рядом с нами.
– Кто гудит? – завопила Эсфирь Семеновна».
Резиденция господина посла
Особняк Харитоненко (Софийская набережная, 14) построен в 1893 году по проекту архитектора В. Залесского.
Харитоненко – фамилия купеческая. По меркам Москвы не сказать, чтобы древняя – лишь в середине девятнадцатого века основатель дела И. Г. Харитоненко решил заработать на сахарной свекле. И преуспел. К двадцатому столетию династия была одной из самых видных в городе. А родовой особняк – одним из самых знаменитых мест в Москве, где регулярно собирались любители искусств. Здесь пел Шаляпин, играл Скрябин, а на стенах были вывешены подлинники передвижников.
Князь С. Щербатов описывал это жилище: «Харитоненко обожал французскую живопись, но презирал современное искусство и считался в художественном мире «vieux pompier». Он тратил огромные деньги на крошечные Мэссоньэ, потолок его гостиной был расписан Фламэнгом. Увлекался он и пейзажами Барбизонцев и лишь под конец жизни стал приобретать и русскую живопись.
Хотя к его собранию живописи передовые меценаты относились несколько свысока, но искренней, интимной, любви к картинам «для себя» в нем было больше, чем у них, и я очень ценил в нем эту искреннюю, подлинную любовь к своим приобретениям. Под конец жизни она вся излилась на собирание древних русских икон, которым увлекалась, более его самого, его жена Вера Андреевна… У Харитоненки я впервые познакомился с бывшим послушником Афонского монастыря и начинающим быть знаменитым художником Малявиным. Он писал большой портрет Павла Ивановича с сыном, писал он его странным способом, так как натурщики были нетерпеливые. Зарисовывая отдельно нос, глаза, рот, характерные особенности, он по этим документам составлял портрет на холсте. Вышло довольно неудачно.
Из роскошной гостиной с золоченой мебелью Обюссон, через залу, где на изысканном вечере, на эстраде, убранной цветами, танцевала прима-балерина Гельцер, Харитоненко, по желанию моего отца, раз провел его и меня к своей матери, никогда не показывавшейся в обществе.
Сморщенная старушка, в черном повойнике, живой портрет Федотова или Перова, пила чай за своим самоваром в довольно скромной спальне с киотом и портретом рослого крестьянина в длиннополом сюртуке, ее покойного мужа, умнейшего сахарозаводчика и филантропа, создавшего все состояние Харитоненок».
Самые же колоритные воспоминания о доме Харитоненко оставила Т. А. Аксакова-Сиверс: «В Москве говорили: «Хари тоненьки, но карманы толстеньки». Карманы были действительно толстеньки, но и овалы лиц милейших Павла Ивановича и Веры Андреевны были скорее округлыми, чем тонкими. Это не мешало Павлу Ивановичу иметь свой приятный стиль; когда он, небольшого роста, плотный, с пушистыми усами, седыми волосами «щеточкой» и выпуклыми глазами стоял во фраке у подножья своей знаменитой, обитой гобеленами темно-дубовой лестницы и радушно принимал всю Москву, я всегда вспоминала «Кота в сапогах», который тоже принимал когда-то короля и маркиза Карабаса в вестибюле средневекового замка.
Вера Андреевна Харитоненко, несмотря на свое дворянское происхождение (она была дочерью курского помещика Бакеева), производила более простоватое впечатление, чем ее муж. Ходила она, переваливаясь с боку на бок, и заводила долгие тягучие разговоры, которые неизменно заканчивались словами: «Ну что вы на это скажете?» Собеседник обычно ничего не мог сказать, т.к. плохо следил за нитью разговора, и последний вопрос ставил его в тупик… В возрасте 12-ти лет я довольно часто бывала у Харитоненко по воскресеньям, бегала по всему дому, играя в мяч с Ваней и его двоюродным братом Борисом Бакеевым, мальчиком нашего возраста с пепельными волосами, глазами ярко-голубого цвета и тонкими поджатыми губами. Борис был замкнут, себялюбив и, как мне казалось, тяготился своим положением бедного родственника… Несколькими годами позднее в доме Харитоненко образовалась компания молодежи, в которую я прочно вошла; для этой-то зеленой молодежи устраивались спектакли под режиссерством Москвина, пела Вера Панина, танцевала Гельцер, индийские факиры показывали умопомрачительные фокусы, на Рождество давались балы с цветами из Ниццы, а на Масленицу бывали блины и катания на тройках.
Харитоненко горячо откликались на все события русской жизни. В начале 1912 года капитан Седов приехал в Москву собирать средства на свою экспедицию к Северному полюсу. Павел Иванович первым подписал крупную сумму на оснащение «Святого Фоки». В честь Седова был устроен завтрак. Я сидела с входившим в нашу компанию Владимиром Долгоруковым и смеялась над его предположениями, что благодарный Седов назовет вновь открытые земли «Пашин нос», «Верина губа» и «Ванин перешеек»».
Господа Харитоненко жили на широкую ногу. Каких только забав ни устраивали в этом особняке на радость друзьям-москвичам: «В Рождественский сочельник у Харитоненко устраивалась елка. В 9 часов вечера подавался ужин, причем под скатертью, по малороссийскому обычаю, лежал тонкий слой сена, поверх же скатерти – букеты фиалок и ветки мимозы.
Под салфеткой приглашенные находили какой-нибудь рождественский подарок. Девочки Клейнмихель и я, как наиболее любимые, находили обычно на тарелках замшевый футляр с какой-нибудь драгоценной безделушкой – чаще всего брошкой из мелких бриллиантиков или уральских камней. В 1908 году я получила на елку золотой браслет с подвешенной к нему медалькой святой Цецилии, покровительницы музыки, работы парижского ювелира Бушерона… У тех же Харитоненко мне пришлось много раз слышать Веру Панину; ее привозил брат Веры Андреевны – Сергей Андреевич Бакеев, у которого была с нею старая связь. Варвару Васильевну Панину обычно сопровождал ее аккомпаниатор Ганс с большой цитрой. Грузная и очень некрасивая, она садилась у стола, облокачивалась на него и начинала петь своим низким грудным голосом так, что у вас не оставалось в душе ни одного уголка, не затронутого этими звуками… В доме Харитоненко я участвовала в двух любительских спектаклях… Оба раза в качестве режиссера был приглашен Иван Михайлович Москвин. Думаю, что хозяевам эти затеи стоили очень дорого, т.к. иначе вряд ли Москвин согласился бы возиться с 16-летними актерами, не умевшими ни ступить, ни сесть на сцене».
Та же Аксакова-Сиверс описывала и сам особняк: «Дом Харитоненко был большой особняк из серого камня с подъездом внутри асфальтированного двора, отделенного от набережной Москвы-реки чугунной решеткой. Такой дом мог стоять и в Париже, и в Лондоне, но вид, открывавшийся из зеркальных окон его фасада, был неповторим. Прямо против окон развертывалась панорама Кремля. Торжественные контуры соборов, башен, зубчатых стен, все то, что мы привыкли видеть в некотором отдалении, было тут как на ладони.
Внутреннее убранство дома было очень хорошо. Особенно славилась уже упомянутая мной широкая, отлогая лестница темного дуба в стиле английской готики. Поднималась она из обширного вестибюля, причем под ее первым пролетом находился самый уютный в доме закоулок – нечто вроде маленькой полутемной гостиной с низкими мягкими диванами, парчовыми подушками и оправленными в темную бронзу зеркалами. Свет на лестницу проникал через два больших витро; левое изображало охоту на дикого кабана, а правое – въезд рыцарей на площадь средневекового города. На верхней площадке по бокам большого камина стояли два достойных леди Макбет седалища под бархатными балдахинами с плоскими подушками, отделанными золотым галуном. Пол, стены и ступени – все было затянуто гобеленами и старинными тканями».
Словом, не дом, а музей.
* * *
После революции семейство, не особенно рассчитывая на скорейшее падение большевиков, убыло в эмиграцию. Здесь же разместилась миссия Датского Красного Креста. С тех пор особняк так и пребывает в ведении министерства иностранных дел. После Красного Креста здание около десятилетия использовалось как гостевой дом Наркоминдела. В нем останавливались Арманд Хаммер и Герберт Уэллс. Последний писал: «Особняк для гостей правительства, где мы жили вместе с г. Вандерлипом и предприимчивым английским скульптором, каким-то образом попавшим в Москву, чтобы лепить бюсты Ленина и Троцкого, – большое, хорошо обставленное здание на Софийской набережной… расположенное напротив высокой кремлевской стены, за которой виднеются купола и башни этой крепости русских царей. Мы чувствовали себя здесь не так непринужденно, более изолированно, чем в Петрограде. Часовые, стоявшие у ворот, оберегали нас от случайных посетителей, в то время как в Петрограде ко мне мог зайти поговорить кто хотел. Г-н Вандерлип, по-видимому, жил там уже несколько недель и собирался пробыть еще столько же. С ним не было ни слуги, ни секретаря, ни переводчика… Подавая на стол, старик-слуга грустно глядел на наше скудное меню, вспоминая о тех великолепных днях, когда в этом доме останавливался Карузо и пел в одной из зал второго этажа перед самым избранным обществом Москвы».
Уэллс в общих чертах знал историю этого дома.
Самым же колоритным постояльцем был Энвер-паша, опальный военный начальник из Турции. Один из современников писал: «Были времена, когда жители дома находили Энвер-пашу несколько беспокойным, но, правда, волнующим компаньоном за столом. Так однажды, за едой, он взял бумагу и карандаш и стал рисовать портрет мистера Вандерлипа. В то время, когда он с жаром затушевывал густые черные брови своей натуры, у него сломался карандаш. Тут его застольные собеседники со страхом увидели, как он, яростно вскрикнув, внезапно выхватил из ножен огромный и опасно выглядевший кинжал. Все подались назад от ужаса. Зять калифа аккуратно заточил карандаш и после этого, вложив смертельное оружие в ножны, возобновил свое занятие».
В особняке появлялась и Айседора Дункан. Да еще как появлялась! Устроила целый скандал, да какой! Ирма Дункан (приемная дочь Айседоры и участница всех тех событий) писала: «Флоринский зашел узнать, не захочет ли Айседора пойти с ним на вечер, где должны присутствовать лидеры коммунистической партии. У него была машина, которая ждала на улице, чтобы доставить на вечер танцовщицу. Мысль о том, что она встретится лицом к лицу с великими людьми, которые сражались за революцию и установили новый порядок, привела ее в трепет. Она представляла себе, как она объясняла потом, что увидит идеалистов с просветленными лицами, одетых так, как одевались многие толстовцы, в простых крестьянских одеждах, и любовь к людям будет сиять подобно нимбу вокруг них. Поэтому она поспешила переодеться в то, что считала наиболее соответствующим такому случаю. Она скоро появилась в своей лучшей красной тунике, поверх которой задрапировалась в алую кашемировую шаль – ту самую, в которой она всегда танцевала свои революционные танцы, в частности „Марсельезу“… Вокруг головы она закрутила красный тюлевый шарф в виде чалмы. Затем, накинув на плечи плащ, она отправилась с Флоринским на свою первую встречу с коммунистическими лидерами».
Но реальность оказалась несколько иной: «Вечер давался в особняке Карахана (в то время заместителя наркома иностранных дел. – А.М.), который Клер Шеридан так хорошо описала в книге, рассказывающей о ее жизни в России. Этот дом, который стоит на южной стороне Москвы-реки и фасадом выходит на Кремль, когда-то принадлежал сахарному королю России и демонстрировал плохой вкус в убранстве интерьера.
Айседора, сияющая и взволнованная, явилась со своим эскортом в большой зал, декорированный и даже сверхдекорированный в стиле Людовика XV. За большим столом в центре зала сидели все товарищи, важные, довольные и хорошо одетые. Они слушали, бросая взгляды, выражавшие разную степень интереса, на даму, которая стояла у большого рояля и щебетала какую-то французскую пастораль:
Прелестная девчушка Фиалки продавала,
Те, что весенним утром Она сама сорвала.
Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла,
Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла!
Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла,
Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла!
Айседора едва верила своим ушам и глазам. Она переводила взгляд с певицы в вечернем платье на потолок с фигурами, движущимися в менуэте, в стиле псевдо-Ватто. Затем ее глаза отметили аляповатую позолоту в дурном вкусе; затем она взглянула на товарищей, сидящих вокруг и слушающих вокальную бессмыслицу, как любая группа преуспевающих граждан среднего класса в любом месте цивилизованного мира. Выступавшая закончила свою «Пастораль» и совсем было уж собралась начать «Галантную песню», когда оскорбленная танцовщица выступила на середину зала.
– Да вы соображаете что-нибудь! – вскричала она. – Выбросить буржуазию только для того, чтобы забрать себе ее дворцы и наслаждаться теми же нелепыми древностями, что и они, и в том же самом зале. И вы все сидите здесь, в этом месте, переполненном плохим искусством и меблированном в дурном тоне, слушая ту же безвкусную музыку. Ничего не изменилось. Вы просто захватили их дворцы. Сколько ни меняй, все то же выйдет. Вы сделали революцию, и вы должны были первым делом уничтожить все это ужасное наследие буржуазии. Но вы более Ироды, чем сам Ирод. Вы не революционеры. Вы буржуа в маске. Узурпаторы!
В гробовом молчании Айседора, как огнедышащий Ангел мщения в пылающем одеянии, выплыла из зала со своим изумленным эскортом. Когда она вышла, в зале поднялся переполох. Он утих только тогда, когда некоторые из наиболее важных лидеров, сидящих за столом, взглянув на дело по-новому, решили, что товарищ, приехавшая из-за границы, была не так уж не права. Но инцидент вызвал столько толков, что даже Луначарский отметил его в статье, которую он позже написал о танцовщице».
* * *
А в 1929 году тут разместилось посольство Великобритании. Что, кстати, здорово разнообразило жизнь учеников вышеупоминавшейся школы. Посольство представляло из себя большой соблазн. Кто-то из старшеклассников прогуливался перед воротами в цилиндре на голове, кто-то проникал на территорию посольства, а в качестве удостоверения личности на полном серьезе предъявлял логарифмическую линейку. Удержаться от подобных каверз было невозможно.
* * *
Рядом же, в доме Майтовых (более известном среди краеведов по другому владельцу как Бахрушинское подворье) устраивались знаменитые сеансы спиритизма. Предприниматель Н. А. Варенцов описывал одно из этих сборищ: «После обеда хозяин, Решетников и я пошли в гостиную и начали продолжать заниматься спиритизмом, остальные гости остались в столовой. Майтов положил на стол овальной формы из красивого дерева лист белой бумаги, сели вокруг этого стола, составив из рук цепь. В руке Решетникова находился карандаш, и все молча углубились в ожидание. Карандаш скоро что-то начал писать, тогда Майтов обратился к мнимому духу с просьбой сообщить свое имя. Карандаш написал: «Мария». – «Как отчество?» – «Николаевна». – «Фамилия?» – «Самойленко». Последний вопрос повторялся три раза, так как фамилия Самойленко для нас всех троих была неизвестна, но ответ получался все тот же.
Тогда, после третьего переспроса, я вспомнил, что у меня была тетка Мария Николаевна Самойленко, которую я видел только в течение трех дней ее пребывания в Москве, когда она приехала из Варшавы, чтобы повидать своего отца, и остановилась у нас; она осталась у меня в памяти только из-за хорошего подарка, врученного мне при отъезде, я был тогда в возрасте шести-семи лет. Потом, когда мне исполнилось восемнадцать лет, мой дядя сказал мне: «Умерла моя сестра Мария Николаевна в Варшаве, в психиатрической больнице Св. Иисуса. Мне известно, – добавил он, – у ней остались средства, находящиеся в банке; наследниками этих денег являетесь вы и я, а потому не съездите ли вы в Варшаву и не узнаете ли все подробности?» Я поехал с одним из своих товарищей, поляком, едущим в то время по своим делам туда. Он мне рекомендовал какого-то адвоката, который навел справку и разузнал, что М. Н. Самойленко действительно была в больнице душевнобольных Св. Иисуса, скончалась, погребена на таком-то кладбище; скончалась она больше двух лет назад, и оставшиеся у ней деньги поступили в пользу города Варшавы в силу существующего закона. Подтвердил, что все ее деньги перешли на законном основании к городу и оспаривать это он не возьмется.
Вспомнив все это, я сказал моим компаньонам по сеансу: «Самойленко – это моя тетка, умершая двенадцать-тринадцать лет тому назад». После чего я задаю вопрос: «Как ты доводишься мне?» – «Твоя тетка!» – «Что тебе нужно?» – «Молитвы и милостыни!» – «Где умерла?» – «В Смоленске». Это сообщение ее уже было неверно: мне известно, что она скончалась в больнице Св. Иисуса и погребена в Варшаве. Переспросили несколько раз, и ответ получался: «В Смоленске». Зная ее отношения с братом Николаем Николаевичем, о которых часто мне рассказывала матушка, с которым, как говорила, она жила как кошка с собакой, с постоянными ссорами и неприятностями, я задал вопрос: «Что желаешь передать своему брату Николаю Николаевичу?» Карандаш с силой вырывается из рук Решетникова и ломается. Взяли другой. Опять задаем тот же вопрос. Карандаш опять вырывается из рук Решетникова и далеко падает от стола.
После чего встали из-за стола и протянули над ним руки. Стол быстро двинулся к двери и ударился в нее; его водворили на старое место, но только протянули руки, как он опять еще с большей силой подбежал к двери и ударился в нее. Гости из столовой, услыхав шум и наши удивления, вошли в гостиную, но стол больше уже не двигался».
А потом начался настоящий детектив. Предприниматель Варенцов, заинтригованный неточностью сеанса – тем, что его тетка заявила, будто умерла в Смоленске – отправился в Варшаву, где жила его сестра. Вместе с сестрой они пошли в больницу Иисуса, расспросить монашек. И выяснилось, что в один прекрасный день тетка Самойленко сбежала из больницы. Обнаружив это, сестры милосердия сразу же приступили к поискам. На железнодорожном вокзале поиски увенчались успехом. Обнаружились свидетели, которые случайно видели, как некая странного вида дама, и притом без багажа, села в московский поезд.
Мобилизован был усиленный наряд сестричек. Они выходили на перрон на каждой станции, где останавливался упомянутый московский поезд. И в Смоленске нашлись новые свидетели – они рассказали, как некая странная дама вышла из поезда, взяла извозчика и направилась в центр Смоленска.
В скором времени нашли и самого извозчика. Тот указал меблированные комнаты, в которые отвез странную пассажирку. И уже в этих меблирашках выяснилось страшное – туда и вправду прибыла дама без документов и без багажа, но через день скончалась. Тело забрали и перевезли опять в Варшаву, где оно и было предано земле.
Таким образом вышло, что дух тетки не врал. Правда, и денег по наследству Варенцов не получил, а только на поездку поистратился.
Дом же впоследствии был продан В. Бахрушину. Продан за бесценок – всего-навсего за 140 тысяч рублей. Хотя незадолго до этого за дом предлагали значительно больше, а именно 300 тысяч рублей. Предприниматель Варенцов советовал тогда владельцам:
– Продайте, по-моему цена хорошая! Тем боле, что в доме вашем не имеется канализации и спускаются все нечистоты в поглощающие колодцы, а по городским обязательным постановлениям делать этого нельзя. Вас заставят сделать бетонированные ямы, и нечистоты придется вывозить, а это обойдется чрезвычайно дорого.