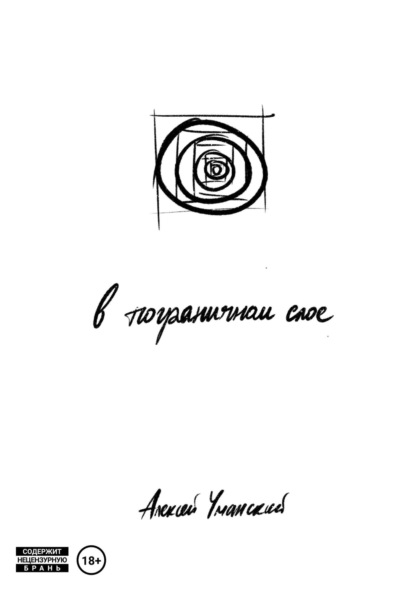По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В пограничном слое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В пограничном слое
Алексей Николаевич Уманский
Роман-исповедь, написанный от перврго лица, – это подводение итогов жизни человека, посвятившего себя размышлениям о бытии и путешествиям по родной стране, в природе которой он видит источник своих творческих сил. Жизнь на планете, заявляет автор в самом начале повествования, объясняя название романа, пребывает в пограничном слое, на стыке стихий – водной, воздушной и земляной; жизнь человека также протекает на стыке временных сред – прошлого и будущего. Память генетическая и память личностная, человеческая связывает эти среды, превращает их в нечто целостное. Память автора хранит множество событий, которыми он хочет поделиться со своими потомками. Неторопливый и обстоятельный рассказ о людях, сыгравших важную роль в жизни главного героя, о его чувствах к ним, спасает их от провала в небытие, позволяет оставаться в том пограничном слое, где только и может пребывать жизнь.
Алексей Уманский
В пограничном слое
Адресуется в первую очередь людям, убежденным в том, что мир создан именно для них.
«Органическая жизнь очень хрупкая. В любой момент планетарное тело может умереть. Оно всегда живет на волосок от смерти».
Георгий Иванович Гурджиев, «Беседы о сокровенном»
Введение
Чем больше он думал обо всем, с чем сталкивался в жизни, тем чаще возвращался к мысли, что всё наше человеческое существование проходит почти исключительно на границе двух сред, двух стихий, будь то Земля и Воздух или Вода и Воздух, тогда как в какой-либо одной из них длительное пребывание для людей невозможно. Да, шахтеры работают под поверхностью в толще Земли, но их работа никогда не добавляла здоровья. Напротив – их тяжкий труд в силикатной или каменно-угольной пыли, без солнечного света, под угрозой взрывов метана и обвалов породы в горных выработках всегда считался и вредным, и смертельно опасным несмотря на все предупредительные защитные меры.
Стихия Воды, в недрах которой когда-то зародилась жизнь на планете, тоже не совсем подходила для постоянного обитания людей. Да, водная среда была удобным, а часто даже единственным средством сообщения между разными местностями и континентами с давних пор. Но голые пловцы даже в жарких тропиках не могли находиться в воде бесконечно. Для благополучия своей жизни на воде и рядом с водой людям пришлось придумать искусственные опоры, возносящие их тела над водой, отделяющие на воде от воды, будь то плоты, лодки, корабли, то есть подвижные заменители почвы под ногами.
После изобретения воздухоплавания и летательных аппаратов тяжелее воздуха человек начал осваивать стихию Воздуха, но с тем же успехом, что и стихию Воды, то есть путем создания для себя искусственной опоры в воздухе, почти столь же невидимом, как пустота. Однако время пребывания в воздухе с помощью любого аппарата: самолета, планера, дельтаплана, параплана, вертолета, воздушного шара и даже дирижабля – еще более ограничено в сравнении с возможностями пребывания на воде в подходящем для условий плавания судне. Кончится горючее для мотора, истечет или охладится в оболочке газ, наконец – иссякнет терпение или работоспособность пилота, выйдет из строя хоть что-то в системе человек-машина – всё! Кранты! Неминуемо произойдет падение аппарата на землю с людьми, если последние не будут спасены парашютами или особой Милостью Божьей (необъяснимые случаи благополучного приземления после падения с большой высоты были известны. Один из них лично засвидетельствовал маршал К. К. Рокоссовский в своих мемуарах: у него на глазах был сбит немецкий самолет, пилот которого летел к земле без парашюта с высоты двух тысяч метров. Место падения летчика находилось рядом. Рокоссовский послал своих сопровождающих посмотреть, что стало. Велико же было его изумление, когда к нему подвели под руки сбитого пилота – тот шел на своих ногах! По этому поводу Рокоссовский заметил – если бы сам всего не видел, ни за что бы не поверил, что такое возможно).
По всему получается, что оставаться самим собой если не в абсолютном естестве (одежда и обувь-то современным людям все-таки необходимы), то по крайней мере в привычном психокомфортабельном статусе без воздуха вокруг себя и без тверди или ее подобия под ногами, будь то земля, палуба или подвесная система, человек не способен. Это стало особенно очевидно после первых космических полетов, в которых обитатели космических кораблей впервые столкнулись с невесомостью. Она оказалась столь могущественным врагом человеческой основы, что пришлось долго подбирать самые разные средства, чтобы худо-бедно примирить физиологию людей с условиями жизни и работы вне поля тяготения Земли в течение недель и месяцев. А ведь для космических полетов отбирали людей с образцовым здоровьем. Там ко всему надо привыкать как неумейкам, там всему надо обучаться так, словно космонавты не взрослые люди, а только что вышедшие из пеленок новички в жизни, потому что ориентироваться, передвигаться, питаться и отправлять свои надобности приходится необычным путем. А ведь до дальних полетов в космическом пространстве дело еще далеко не дошло. С околоземных орбит Земля еще представляется громадиной, хотя уже и обозримой со всех сторон в течение полутора часов и даже с Луны она выглядит крупнейшим небесным телом, способным напомнить людям, где их родина и куда бы им надо вернуться. Но если Земля станет малой светящейся точкой в нескончаемой ночи Космоса, неотличимой от любых других, люди потеряют и эту возможность знать, причем уверенно и без приборов, как им найти путь в потерявшийся из виду дом.
Гравитация превратила нас из облако-образных существ первой человеческой расы в нынешних людей пятой расы с тем костяком, мышцами и внутренними органами, какими мы привыкли себя ощущать, и иное нам не присуще, хотя мы уже хотим плавать не хуже китообразных в толще океанов, летать не хуже птиц и ни в чем не знать себе преград вопреки всем реалиям на поверхности Земли, ее суши и вод, к которым мы крепчайшим образом привязаны основными условиями существования, будь то притяжение Земли, температура и состав воздуха, качество почвы, существование других живых организмов в царствах Флоры и Фауны.
Но не только наша привязанность к планетарному пограничному слою предопределяет возможность ведения человеческой жизни на Земле. Мы не в меньшей степени зависим от пограничных эффектов, во множестве действующих в цивилизованном обществе. Именно в нем мы принадлежим к разным слоям социума сразу в целом ряде аспектов. Это слои образованных и необразованных, культурных и бескультурных, просветленных и духовно неразвитых, творчески активных и безразличных к творчеству, богатых и малоимущих, работающих хозяевами и работающих по принуждению, в частности – по найму. Там, где существа одного социального слоя отграничены по какому-либо признаку от других существ, мы снова встречаемся с ситуацией пограничного слоя. Здоровые отделяются от больных, инициативные от пассивных, ведущие от ведомых, властители от подданных.
Подобно тому, как электрону, вращающемуся вокруг ядра атома, необходимо получить или потерять энергию для того, чтобы «скакнуть» с одной устойчивой орбиты на другую, любому человеку необходимо затрачивать усилия для того, чтобы перейти из одного социального слоя в другой. А ведь на то, чтобы сохранить себя в одном слое, или, наоборот, покинуть его и перебраться в другой слой, практически и расходуется вся наша земная жизнь.
Однако не надо думать, что этим исчерпывается или заканчивается проблема пребывания человека в пограничном слое – она не имеет ни низшего, ни высшего предела существования – подобных его рождению или смерти. Особенность проблемы в том, что она неотрывна от бытия всех людей на протяжении всего интервала между упомянутыми конечными точками. Люди живут постоянно между двумя возможностями в любой момент времени – возможностью продолжить жизнь (если такова будет Воля Высших Сил) и возможностью умереть с бо?льшей или меньшей легкостью (если Воля Высших Сил будет иной). Да, в норме человеку не дано знать наперед, когда он умрет, но он имеет достаточно оснований полагать, что смерть может случиться гораздо раньше, чем он думает оказаться лицом к лицу с ней. Сознательно или неосознанно, вольно или невольно, он должен ощущать хрупкость своего бытия, поскольку оно проходит в пределах тонкого пограничного слоя, в котором между жизнью и смертью всего лишь какой-то шаг. Разумеется, большинство населения планеты не думает об этом постоянно. Но вряд ли кто-то из людей свободен от того, чтобы, вглядываясь в свои уже прожитые годы, не поразиться множеству случаев, когда турбулентность пограничного слоя внезапно подбрасывала его к самому пределу жизни и вдруг по неизвестной причине отбрасывала его назад. Тут уж невольно подумаешь о чудесах и о хрупкости бытия. То есть о своем постоянном пребывании в пределах тонкого пограничного слоя – очень уж много всего может случиться в нем и зачастую – совсем неожиданно. Многообразие переменчивых ситуаций таково, что заранее подготовиться ко всему их «ассортименту» просто немыслимо – слишком уж велико их число и несходство.
Однако людям не остается ничего другого кроме как жить в такой обстановке. И главное, что они могут противопоставить неожиданным и большей частью негативным воздействием на себя извне – это терпение и способность учиться и приспособляться, оставаясь по возможности теми же существами, какими они привыкли себя ощущать и считать.
То, что Михаил видел, оглядываясь на жизнь ближайших поколений, находившихся в его личном поле зрения, а также в письменной истории стран и народов минувших эпох, в легендах, дошедших до нас из тьмы предистории, воспринималось им как закономерный процесс, подчиняющий себе все постоянно происходящие перемены как будто бы вполне хаотичного характера и природы. Закономерностью, определяющей происходящее в Мире, был, как он понял, Принцип, установленный самим Творцом Мироздания, а именно Принцип постоянного внесения перемен и разнообразия в то, что Было Создано Им первоначально, благодаря саморазвитию, подконтрольному, однако, в итоге только Ему, Создателю. И в сущности генератором перемен и умножающегося разнообразия в ходе времени во вселенной, был пограничный слой, возникающий всякий раз, когда одна экспансивная стихия или существо или предмет посягает на консервативное состояние другой стихии или существа или предмета, заставляя последние сопротивляться переменам, которых они не жаждали. Однако, поскольку их не спрашивают, а подвергают тому или иному воздействию, им приходится пускать в ход все свои ресурсы, чтобы в возможно более полном объеме оставаться прежними, узнаваемыми для самих себя.
Мы хотим, но не умеем быть добрыми в полной мере. Почему? Да потому, что обидно быть добрыми, одновременно забывая о себе, хотя это наша прямая жизненная обязанность – ведь если в нашем мире сам не позаботишься о себе, никто о тебе не позаботится. Такова практика, из которой почти не бывает исключений, но по какой причине исключения все-таки случаются? Видимо, только в силу родства или добровольного поклонения. С родством – понятно, пусть даже оно по ходу времени всё больше утрачивает свою значимость. Поклонение – дело другое. Люди еще не утратили влияния друг на друга, и оно еще способно принимать ударные формы, будь то любовь, поражающее эстетическое воздействие на психику, признание потрясающего превосходства над тобой или высшая благодарность.
В сущности, наша жизнь и строится, в чем это от нас зависит, на стремлении служить тому, чему мы поклоняемся, а не тому, к чему нас обязывают либо принуждением, либо правилами исполнения своего морального и общественного долга. Нам бы стараться улучшиться, сделаться чище и совершеннее, однако под давлением обстоятельств, соблазнов и незрелости мы откладываем это на потом. Очищение своей духовной сути и даже развитие собственного тела перемещается, таким образом, с первого места в ряду наших целей на какое-то другое – второе, третье или четвертое и так далее, а то и оставляется без внимания совсем. Это можно не замечать всю свою жизнь, не испытывая ни тревог, ни сомнений насчет неблагоприятных последствий, но если перед самым уходом в Мир Иной у нас найдется миг для осознания будущности, то неизбежно нахлынет сожаление о напрасном и глупом забвении самого главного, что надлежало выполнить в мире земном. Душа и дух отлетят в Неведомое от ставшего без них мертвым бренного тела с тем, чтобы через какое-то время вернуться назад в новом телесном воплощении в новый цикл земного существования, и пока мысль о благе для тела не перестанет превалировать над мыслями о благе для вечного духа, нам никуда не вырваться из Сансары, из круга земных перевоплощений с новыми рождениями и с новыми смертями, хотя именно Промысел Божий, в силу которого мы оказались на планете Земля, если хорошенько подумать, обязывает нас стараться освободить себя от пут земных и от земного тяготения – короче – от земного бытия, где мы вынуждены достаточно недолго существовать и полоскаться в пограничном слое, где мы быстро изнашиваемся, вместо того, чтобы навеки приобщиться к постоянному существованию в Высших Мирах.
Как тут не вспомнить старые торгово-грузовые итальянские термины «брутто» и «нетто», которые означают соответственно «грязный» вес предмета во временной грубой (и в конце концов бесполезной) упаковке и «чистый» его вес, в котором мы и должны проявлять себя перед Лицом Предвечного в надежде, что в этом качестве мы сможем быть полезны Ему там, где постоянно обитают при Нем достаточно совершенные и невообразимо высокоразвитые существа. Итак, нам при каждом новом рождении на Земле (о чем, как помнится, нас никогда не спрашивают) надлежит пройти, проделать свой очередной смертный путь, освобождаясь в меру сил и способностей от бездуховной или низкодуховной телесной оболочки (а если точнее – от ее на себя решающего воздействия), путь, который в нескольких словах можно обозначить как «от своего состояния брутто к своему постоянному существованию нетто».
Эта разница между состояниями брутто и нетто во все времена оказывалась куда значительней, чем между видимым счастьем и горем, успехом и провалом, Добром и Злом в течение каждой отдельной жизни на этой Земле в тонком пограничном слое, пригодном для обитания человечества.
Возможно, даже не отдавая себе отчета в том, насколько он тонок, люди все-таки в образной форме представляли себе, мягко говоря, «скромность» его величины, раз уж с давних пор без возражений признавали правоту выражения неизвестного ныне мыслителя «от любви до ненависти – один шаг», равно как и истинность слов Наполеона Бонапарта «от великого до смешного всего один шаг», коль скоро обе поговорки фактически приведены к общему «одношаговому» знаменателю. А если подумать, то в тех же пределах заключен разброс всех самых важных и полярно противоположных параметров, характеризующих все наше существование от его начала и до конца.
Михаил Горский не считал себя человеком, хоть в чем-то принципиально отличным от других людей, и его даже устраивало, что его персона никогда не привлекала чрезмерного внимания к себе ни среди окружающих, ни со стороны различного рода государственно-социальных органов. В состоянии обыденности своего бытия ему уже давно думалось и работалось достаточно хорошо, чтобы не желать для себя другого. А, кроме того, он считал, что так лучше и точней представлять себе жизнь. Собственно, ему и не настолько много осталось жить, чтобы пытаться перейти к другому существованию на Земле в новом статусе и в новом слое. Пора уже было подбивать итоги жизни, чтобы додумать и домыслить весь накопившийся опыт и, если получится, представить его на обозрение и людям, и самому себе. Это он и говорит в дальнейшем от собственного лица.
Глава 1
Извлекут ли мои потомки что-то полезное для себя из опыта моей жизни и моих наблюдений? Как говорится – «почем я знаю?» Однако склоняюсь к выводу, что скорей всего – нет. С какой стороны ни взглянуть на это дело, оснований для оптимизма не увидишь. Вон – Спаситель человечества, будучи Сыном Божьим, принял облик людской, чтобы убедить всех смертных, что ОН не уклоняется ни от каких опасностей и страстей, с которыми люди сталкиваются на каждом шагу, и на ЭТОМ ОСНОВАНИИ заставить их поверить в истинность пути, указанного ИМ, к спасению человечества, к восторжествованию Царствия Божия на Земле – и что? Убедил, заставил поверить? Кое-кого – да! Причем крепко, по-настоящему. Они-то и образовали сонм христианских святых. А большинство уверовали в Христа в той или иной степени формально, ибо следовать путем, указанным и провозглашенным ИМ, то ли не смогли, то ли не захотели, то ли так до сих пор и не поторопились – и это за две тысячи лет! Церковь Христова не устает напоминать своей пастве ее обязанности, и та согласно кивает головами, как будто даже следует за своими пастырями в сутанах и рясах, а к состоянию, пригодному для осуществления Царствия Божия на Земле, так и не приходит. В чем дело? Не будем проклинать несовершенство человеческой породы – нет, не природы, а именно породы, произошедшее вследствие сексуальных возбуждений и усилий двух перволюдей и их прилежных последователей – от первого поколения детей Адама и Евы до нынешних. Но факт есть факт. Изменяясь очень во многих смыслах по отношению к предкам, потомки с удивительной стойкостью последовательно не изменяются в главном – не учатся на ошибках предшественников, предпочитая учиться почти исключительно на своих собственных. Почему? Да потому, что они как были, так и остаются одержимы страстями, которые значат для них гораздо больше, чем анализ причин и следствий, чем сознательный и самостоятельный поиск Истин, чем стремление искупить постоянно возрастающую без целеустремленного искупления карму собственной вечной духовной сущности.
Ну, а кто я такой на фоне других людей – как признавших для себя законом следовать учению Христа, так и не признавших? Такой же, как все! Как все, наделенный от рождения некоторыми способностями, о которых можно с известной осторожностью сказать, что они имеют отношение к Божественной Сущности нашего Небесного Творца, раз уж по Его Воле и Промыслу каждый из нас вправе произнести «Аз есьм». Это вроде как многообещающее начало питало у моих родителей надежду, а у меня самого даже определенную уверенность, что из меня может получиться если не что-то особенное, то все же хорошее. Родители не жалели сил, преподавая мне основы честной жизни, стремясь развить благие способности и приобщить к эстетике и культуре. И я им действительно очень многим в себе обязан, особенно тем, что считаю лучшим в себе.
Но воспитывали меня не только родители, стремившиеся к тому, чтобы я стал счастливым или хотя бы более счастливым, чем они, когда я сделаюсь самостоятельным или, по детской терминологии, «большим». Воспитывали еще и детский сад, прививающий первые опыты социального общения, и двор, и школа, и институт, и последовавшая за ним работа в разных местах – от завода до нескольких НИИ. Воспитывали – причем очень мощно – спортивные туристские походы и восхождения в горах. Короче – наряду с родителями у меня хватало и других воспитателей во мне самых разных представлений о жизни в семье и обществе и о том, как в них следует себя вести. Проявлялся ли во мне какой-либо собственный стержень, на который нанизывался шаг за шагом опыт личной жизни и опыт общения с другими людьми и со всякими структурами общества? Да, полагаю, что проявлялся. Не знаю, был ли этот стержень прям или хотя бы так слабо изогнут, как становой хребет здорового человека, но все же меня не оставляло ощущение, будто все познаваемое по ходу жизни действительно прилегало к некоему подобию хребта, который мне представлялся не очень определенной, но все же основой моей личности. Я развивался, любил, увлекаясь и разочаровываясь и снова увлекаясь, не отличаясь в этом смысле от подавляющего большинства других людей. Во мне накапливались знания и набирал силу скепсис, образующие в совокупности базу для выработки собственных суждений наряду со сведениями, почерпнутыми со стороны из книг, от учителей и из собственных разовых наблюдений. В этом смысле я был вполне нормален, то есть обычен, если исходить из представления о том, что норма – это нечто органически свойственное большинству, и не является какой-то центральной усредненной редкостью на фоне бесчисленных разбросов этих свойств как по их величине, так и направленности от центра на большие расстояния.
Да, объективно я был обычен, нормален. Как все, ходил в школу, не очень интенсивно, но все же проявлял себя пионером, хотя так называемого «Торжественного обещания» (как официально именовалась пионерская клятва) не давал. Однако кричать в ответ на стандартный призыв пионервожатых: «К борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовы!» – «Всегда готовы!» доводилось и мне. Как довелось стать и комсомольцем – уже с членским билетом в кармане «у сердца», как полагалось считать в соответствии с тогдашними правилами хорошего тона – отличаться от этой нормы и не хотелось («а чем я хуже других?») и не рекомендовалось, чтобы тобой специально не заинтересовались многочисленные надзирающие за плебсом лица и инстанции, и даже для того, чтобы не создавать себе затруднений при поступлении в ВУЗ, хотя в те времена поступать в институт было в общем не сложно.
Я был нормален еще и в том смысле, что женился по любви, и у нас с Леной сама собой без специальных стараний родилась дочка Аня, которую в силу этого безо всяких сомнений можно было считать дитем любви, причем она для всех оказалась желанной: и для родителей, и для обеих бабушек и для обоих дедушек, и особенно потому, что вполне удалась живостью, трогательностью, красотой и сообразительностью. Аня в четыре года практически сама научилась читать после того, как с помощью взрослых усвоила алфавит, с двух с половиной лет с удовольствием ходила в несложные походы и умела, когда стала постарше, разжигать костры, ставить палатку, грести на байдарке и делать всё остальное, к чему обязывает маршрут и походный быт. Я даже думал, что это привилось к ней навсегда. Но нет, оказалось иначе. Ане шел уже пятнадцатый год, когда мы с Леной разошлись, можно сказать, по-хорошему. И у нее была тогда связь с ее коллегой по философии Эдиком Соколовым и у меня нашлось счастье в любви с Мариной. В новых условиях жизни мое воспитывающее влияние на дочь свелось к минимуму. Пока Аня училась в школе, в ее новой семье еще по инерции ходили в походы. Впрочем, Эдик был на это не очень падок, и постепенно от походов отвыкли и Лена, и Аня.
Под влиянием моих родителей-архитекторов Аня собралась поступать в архитектурный институт. Я был совсем не уверен, что специальность, привязывающая человека к чертежной доске, особенно если он сам не чувствует к этому рвения, очень подходит для дочери. И хотя она интенсивно готовилась к вступительным экзаменам по рисунку, её не приняли, а я не очень огорчился. В ожидании приемной кампании в ВУЗы на следующий год Аню устроили работать в архитектурную мастерскую под начало давней приятельницы моей мамы Эмилии Саркисовны, и эта практика окончательно исцелила Аню от стремления поступить в архитектурный институт. Она решила пойти на философский факультет МГУ, который закончили и ее мама, и Эдик – второй отец. Этот выбор показался мне более удачным. Аня сдала все вступительные экзамены на пять, но её, несмотря на это, сперва даже не зачислили в студенты – политика властей была такова, чтобы в «идеологический ВУЗ» в первую очередь принимались льготники, отслужившие службу в армии, в войсках МВД или КГБ, так что льготники от военной сохи выбрали все квоты для поступающих сразу после школы. Но благодаря тому, что Лена и Эдик пустили в ход все свои знакомства с преподавателями философского факультета, Аня с трудом получила свое законное место, честно завоеванное в конкурентной борьбе и нечестно у нее оспоренное. Эта история многому научила мою дочь, да и меня тоже, хотя в отличие от Ани я к такому обороту дел был готов. А дальше у нее пошла жизнь, отделявшая нас друг от друга все больше и больше. Если не считать встреч, связанных с передачей денег (Лена не подавала на алименты, довольствуясь уверенностью, что я сам буду исправно их платить, в чем не ошиблась) мы с дочерью виделись очень редко. В первую зимнюю сессию, когда Ане предстоял экзамен по высшей математике, она попросила меня прояснить непонятные вещи в математическом анализе. Сам я не был вполне уверен, что смогу выступить успешным ментором, однако результаты превзошли все ожидания. Аня сдала экзамен на пять, а принимавшая его дама, профессор мехмата, искренне удивилась, что такая умная девушка пропадает на философском факультете, и предложила Ане перейти на свой родной мехмат, пообещав в помощь в обеспечении перехода. Аня не смогла объяснить доброжелательнице, что нет у нее подходящих для мехмата данных. Я, пожалуй, был солидарен больше с Аней, чем с профессором, которой знания моей дочери показались заслуживающими лучшего применения просто на фоне того убогого лепета, который она с отвратительной монотонностью выслушивала от большинства будущих философов. Но что было, то было: Аня приписала свой успех при сдаче экзамена почти исключительно моей помощи при подготовке к нему. Однажды – дело было уже на втором курсе, когда Марина на октябрьские праздники улетела повидаться с сыном Колей, начавшим летную службу в истребительном авиационном полку на границе с Афганистаном, Аня пригласила меня к себе в гости на вечеринку, чтобы я не чувствовал себя совсем одиноким. Кроме ее мужа Алеши, учившегося на журфаке МГУ, и ее бывшей одноклассницы по французской школе – красивой и очаровательной Тани Лавровой – я там не знал никого. Было небезинтересно сравнить студенческие вечеринки моего времени с нынешними. Особо разительных отличий вроде бы не наблюдалось. Просто всплески эмоций в компании чаще относились к тому, чего я не знал или к чему был безразличен. Изредка и я встревал в общий разговор и чувствовал, что удачно – все-таки было видно, что меня слушают не как Аниного предка, к которому из вежливости приходится проявлять терпение, несмотря на скуку, воздействием которой у слушателей появляется только одна мысль: «Господи, только бы поскорее он заткнулся!» Нет, на мои реплики реагировали с неподдельным интересом, и это вроде могло бы породить в моей голове иллюзию, будто бы я сам, разумеется, при наличии собственного желания, мог бы войти в этот круг молодых людей. И все-таки, несмотря на это, что-то внутри предупреждало, что такое невозможно, и не стоит сколько-нибудь обольщаться на этот счет. Это был сигнал из глубины существа, важное предупреждение – вроде того, какому внимают люди, обычно избегающие браков как будто с весьма подходящими партнерами, в поведении которых вдруг проявляет себя всего-навсего мелочь, и она-то, вопреки своей вроде бы ничтожной значимости, вдруг заставляет основательно усомниться в человеке – возможном будущем супруге и даже мгновенно представить в своем воображении, к чему способен привести опрометчивый шаг.
Нет, соблазняться мыслью, будто можно стать для молодежи «своим парнем» я, конечно, и не подумал. Просто промелькнул в мозгу с первого же взгляда в корне нереалистический вариант – и сразу померк, ничуть не поколебав прежних убеждений. А если говорить начистоту, то увиденное в этом молодежном обществе что-то сходное с самим собой в давнем прошлом, вовсе не стало поводом загрустить о безвозвратной потере прежних юных ощущений и ожиданий от жизни. Я совсем не желал повторить уже пройденный путь, как хотят для себя очень многие («Эх!» Сбросить бы мне двадцать-тридцать-сорок лет! Вот была бы жизнь!»). В этой ностальгической увлеченности пребыванием в состоянии молодости для меня не было ничего привлекательного. Я недоумевал: неужели кому-то действительно могло понравиться возвращение в младшие классы, по-старому – в приготовишки – после того, как субъект уже начал кое-что правильно понимать в действительном устройстве бытия и научился самостоятельно прокладывать в нем собственный курс?
Нынешние студенты были явно состоятельнее прежних, но это отнюдь не заставляло завидовать им. В дни моей юности бедность и нищета перекрывалась постоянной занятостью разными увлекательными делами, позволяющими в значительной мере отключить сознание от того, во что ты одет и обут, если только не хочешь понравиться особенно хорошо одетой девушке. Тогда да, мысль о внешней убогости и отсутствии «презентабельности» могла довольно остро воздействовать на настроение. И тут уж дальнейшее развитие событий зависело от девушки: если она была сто?ящей, то принимала тебя как такового, в чем ты есть; если же ты казался ей неподходящим по этой причине – что ж – тем было лучше и для тебя, незачем было связывать с такой ни своих надежд на счастье, ни, тем более, жизнь. Зато сколько радости приносили нам встречи за дружеским столом после туристских походов, все равно каких: после больших и дальних или ближних на выходные дни. Нынешним студентам походы были уже ни к чему, тем более, что они могли уединяться, как правило, в своих отдельных квартирах, а не в палатках в тайге или за городом, поскольку в комнату родителей в коммунальной квартире просто так девушку не приведешь, разве что если женишься. Уж в таких-то случаях родители принимали в свои семьи и невесток, и зятьев (смотря по тому, кто из них больше нуждался), чем бы сами ни обладали – комнатой или двумя в коммуналке или квартирой, где могли выделить отдельное помещение молодым. Надо думать, жизнь тогда все равно, как обычно, сама по себе диктовала старшим поколениям свои категорические императивы: дескать, вырастили до взрослого состояния детей, теперь вы должны обеспечить и получение внуков, как в свое время ваши родители вырастили вас и помогли вырастить ваших детей. Теперь эстафетная палочка непрерывного процесса служения будущности своей породы в ваших руках. Вот вы и держи?те ее в своих руках, пока не уроните или пока ее у вас не отберут. И на этом ваша всемирно-историческая роль как живых существ на Земле будет закончена. И после этого вам не стоит стараться продлевать свою жизнь вдвое-втрое против обычного – незачем вам занимать на этом свете места, уже запланированные для других существ, нарушая своим эгоистическим стремлением оставаться в плотном мире подольше входе системы смены поколений на достаточно тесной арене жизни. Это не соответствовало бы ни Промыслу Божиему, ни интересам тех, кто по воле Творца должен сменить вас. А уж они-то о своих интересах позаботятся, пожалуй, даже обстоятельнее, чем вы, когда вам пришло время исполнять свою взрослую роль.
Ну, и что остается делать? А просто рассматривать свою оказавшуюся в конце концов такой короткой жизнь как время пребывания в пограничном слое между прошлым и грядущим, зная уже, что это тоненькая-тоненькая временная среда нашего обитания и полумгновенная длительность происходящего на наших глазах. Почему «полу», а не мгновенная? Да оттого, что раз на раз не приходится. Иное мгновение растягивается на годы, зато случается, что и года воспринимаются всего лишь немногими мелькнувшими и пропавшими мгновениями.
Растяжимость и сжимаемость разных отрезков времени в памяти каждого человека свои. Но несмотря на пластичность природы памяти, она нередко обнаруживает и свою хрупкость. Есть вещи, подвергшиеся в ней разрушению, размыванию, даже аберрации (собственно, у многих людей это самое обыкновенное дело), но некоторые вещи остаются при человеке нетленными, в первозданном виде. И это прежде всего любовь и ее первая производная по времени – секс. Впрочем, многие полагают, опираясь на физиологическую основу сущности людей, что все обстоит как раз наоборот. В их представлении первородным является секс, а уж от него-то первая производная – любовь, хотя только та её, правда, главная разновидность, которая во множестве случаев управляет особыми, причем не только сексуальными, отношениями между полами. Я не ставил перед собой задачей установить, что первично – любовь или секс – ни теперь, прежде. Но уж то, как они между собой могут соотноситься – это да – всегда занимало и, наверное, еще будет занимать меня.
Лично я принадлежу к тому поколению, в котором большинство моих сверстников и сверстниц познали любовь раньше, чем секс, или, если быть более точным – чем сексуальные образы и мечты смогли воплотиться в реальность. С тех пор, и уже достаточно давно, многое переменилось. Пожалуй, уже бо?льшая часть юных, вступивших в пору полового созревания, сначала постигают сексуальные радости сближений и лишь потом особо ценные душевные и духовные взлёты (мне все-таки претит мысль, что из-за этого они вообще лишают себя полноценных ощущений любви). С чего бы ни начать, лишь бы придти к гармонии – вот это самое трудное и важное. И совсем немногим удается удостоиться счастья взаимного обретения сразу на всю жизнь, без долгих поисков после очарований и разочарований, неоднократно следовавших одно за другим. Мне выпало принадлежать к большинству и в этом смысле, то есть испытывать сильнейшее тяготение к предметам мечтаний – сначала к девочкам-девушкам, затем к женщинам, чье обаяние и красота порождали любовь и желание обладать ими, даже обретать с некоторыми из них иллюзию высшей гармонии, прежде чем я смог вполне удостовериться в том, что гармония в моей жизни действительно есть, что она знаменует почти каждый ее день почти в любых ситуациях благодаря любви женщины, чьим избранником стал я, и кого моя любовь сделала моей избранницей.
Марина вошла в мою жизнь, когда мне исполнилось тридцать семь лет, и чувство к ней во мне немало всего преобразило. Не вдруг, не сразу. Ведь во мне уже сидела инерция прожитых лет, удачных и неудачных поисков и обретений; она глубоко проникла в психику, будь то сознание, а то и подкорка, и не могла испариться в один момент. Кредо каждого в большинстве случаев формируется под влиянием хода жизни, которая у него есть, даже если в голову изначально уже были внесены какие-то ожидания и схемы – не зря же нас снабжают ими с ранних детских лет, рассказывая сказки, читая вслух соответствующие повести, пока мы не принимаемся читать их самостоятельно, постепенно переходя к романам, приносящим нам опыт жизни, счастья и судьбы посторонних людей. Но как бы глубоко ни укоренились схематические представления о способах обретения счастья, жизнь заставляет корректировать их в соответствии с выводами, которые каждому приходится делать самому после анализа событий, из которых раз за разом становится более отчетливо видной твоя судьба, какая она ни есть, а еще подозрение – не требуется ли тебе что-то менять в себе ради осуществления мечты.
Естественно, и я к своим итоговым выводам пришел не сразу. Первая любовь нахлынула на меня в тринадцать лет, и это был обвал всех прежних представлений о смысле и ценности жизни. Все мое сознание было целиком перевербовано в пользу любви. А что я о ней мог знать кроме того, что мысли о моей ровеснице Ирочке Голубевой, не дают мне покоя ни днем, ни ночью, ни дома, ни в школе – короче, никогда и нигде? Сейчас не имеет смысла вспоминать детали новейшего и сильнейшего наваждения, которое без спроса и предупреждения навалилось на меня – важным навсегда стало другое: я понял, что это – любовь, и что отныне я должен служить именно ей, то есть любви, которая предстала передо мной в образе Ирочки, но не была полностью тождественна Ирочке даже в моем еще совсем не искушенном мозгу. Любовь, в отличие от Ирочки, была не только конкретным понятием (ведь я знал, кого любил), но и высшей абстракцией, высшей и отличной от любого ее реального предмета, главной целевой функцией, какая только может быть усмотрена в жизни, и одновременно генератором высшего возможного эмоционального состояния, доступного смертным. Разумеется, тогда я еще не знал и не находил таких слов для характеристики любви, но я совершенно определенно утверждаю, что всё это понял и провидел без слов, без малейшего (за исключением родственного) опыта, поскольку любовь вызывала более мощное чувство и тяготение к постороннему человеку, чем к любому родному человеку, включая мать и отца. Я достаточно долго пытался разобраться – нет, не в причинах, скорее в последствиях, вызываемых чувством любви, раз уж она оказалась практически всевластной, и постепенно начал как будто бы понимать. С непреложностью стало ясно, что жить необходимо КАК-ТО по-другому, чем до ЭТОГО, хотя в голове еще не созрело представление о том, как и в чем именно надо изменить свою жизнь, чтобы она могла удовлетворять велениям любви, хотя большая часть этих требований пока была недостаточно ясной. Однако главное все же сразу сделалось понятным – любви отдается высший приоритет перед всеми другими делами, вещами, занятиями. Даже такому несмышленышу, каким тогда, без сомнения, предстал перед ликом любви я, не требовалось доказывать, что это именно так, а не иначе – любовь теперь просто по определению была превыше всего, а если она чего-то не превосходила, значит, это не заслуживало ни названия, ни определения настоящей любви. Данное убеждение не оставляло меня и в дальнейшем, когда прошла любовь к Ирочке Голубевой и началась к Ирочке Розенфельд, а там и к Инночке Буриной и так далее, когда я уже имел представление и о невостребованности своей любви, и о разочаровании в ее объекте, и о том, что любовь не только способна, но и обязана возрождаться, потому что без этого не сто?ит существовать. Набираемый мною опыт заставлял вносить коррективы в свои представления о любви, которые, впрочем, никогда не касались главного. Да, я обнаружил, что любовь как высшая воодушевляющая сила, вызванная чарами внушающей ее дамы, нуждается не только в удовлетворении (на первых порах – еще не сексуальном), то есть во взаимном встречном чувстве, но и в охранении ее достоинства внутри себя от посягательств с любой стороны, даже со стороны ее предмета, ибо она представляет собой высшую ценность среди всего, что у тебя есть и ПОТОМУ допускать над ней глумления, даже просто пренебрежения ею не к лицу никому, кто считает, что любит. Таковы были начальные постижения, и каждое из них, подобно тому, как инструкции по полетам писались кровью летчиков, писалось кровью не находящего покоя сердца. Если кому-то покажется, что это слишком выспренное представление о реальности бытия любящего человека, то не мне. О любви я думал всегда – и когда я чувствовал ее, и когда она терзала меня, и когда её вдруг больше вообще не оказывалось, а вместо нее внутри воцарялась ПУСТОТА, едва ли не напрочь истребляющая смысл всего окружающего тебя, и жизнь поддерживалась только привычкой к ней, да еще желанием проявить достаточную стойкость ради того, чтобы не вызывать к себе жалости ни со стороны, ни изнутри себя, и сохранить даже в раздавленном состоянии видимость несломленного человека. В общем, это напоминало борьбу с самим собой не на жизнь, а на смерть, в ходе которой ты не должен сметь демонстрировать свою убитость, тогда как у тебя в душе нет ни любви, ни надежд на возрождение. Это я тоже прошёл не раз и не два, хотя все еще мучился только испытанием однобоко духовной любви, а не той полноценной, когда воодушевление сочетается с сексом, постепенно все больше заявляющем о себе, но пока никак не фокусирующимся на том же объекте, который вызвал к себе так называемую «чистую любовь».
Наконец, в возрасте двадцати одного года я обрел составляющие полноценной любви в лице своей первой жены Лены. К ней у меня возникло чувство любви, которое все возрастало по мере углубления знакомства. С ее стороны, как мне думалось, было примерно то же самое. Перед нашей свадьбой я уже закончил четвертый курс, а она – третий год обучения в аспирантуре. Разница лет не имела для меня никакого значения. Когда я проходил летнюю производственную практику после завершения четвертого курса в Запорожье, Лена приехала туда ко мне, страдающему без нее от одиночества. Там мы фактически и стали мужем и женой. До нее у меня не было женщины, и я у нее тоже оказался первым.
Половая жизнь, начатая нами в Запорожье, продолжалась потом со всей возможной для меня интенсивностью в Москве и в любом месте, куда благодаря общей увлеченности туристскими походами мы ни забредали. Эта новая сфера любовного общения открыла новые горизонты, не закрыв уже известных в годы романтических и целомудренных увлечений. Лена не ограничивала меня и мой пыл без особых причин, и близость в соитиях настолько существенно украшала нашу будничную жизнь, что мне и в голову не приходило попытаться расцветить ее еще большим внесением разнообразия за счет связей на стороне. Не стану врать – иногда соблазны при знакомстве кое с кем из женщин будоражили и возбуждали меня, но с этим удавалось справляться, оставаясь в рамках преданности своей избраннице без особого напряжения – ведь мне всегда было ясно, что Лена лучше других женщин, даже если те тоже были очень хороши. Именно тогда я начал понимать, что поддержание любви к своей жене в течение всей жизни означает постоянную работу в интересах сохранения союза. С одной стороны, надо было удерживать себя в узде, когда инстинкты побуждали проявить серьезный интерес к другим привлекательным дамам, будь то девушки или замужние женщины, что казалось мне естественной обязанностью, даже участью, любящего женатого мужчины. И хотя изгнать из основы своего биологического существа органически присущий ему инстинкт размножения, который побуждал пользоваться каждой подходящей и благоприятной ситуацией, нечего было надеяться, я противопоставил его воздействию своё сознание и волю к тому, чтобы всё, порождаемое этим инстинктом, продолжало принадлежать одной Лене и доставалось только ей.
Так и продолжалось у меня с Леной в течение семи лет, и я ни разу не пожалел ни о своем выборе единственной женщины, ни о своей верности ей. Однако постепенно до моего сознания стало доходить, что для противодействия своим и чужим свободным сексуальным валентностям (а таковые несомненно оставались в недрах управляющей психики каждого существа, в том числе и моей) и подавления их воздействия одного моего личного старания мало. Дальнейшее сохранение верности надо было постоянно поддерживать с обеих сторон. Перебирая в уме возможные варианты близости с другими женщиными, от которых я отказывался, я всё более определенно склонялся к выводу, что это и впредь будет иметь смысл, только если Лена будет поступать точно так же, как я – ведь не приходилось же сомневаться, что и ей по жизни будут встречаться перспективные и соблазнительные знакомства, как это случалось у меня. Возможно, серьезных испытаний для неё они ещё не представляли, поэтому о противостоянии возможному влечению на сторону она пока не заботилась, но ведь всё могло измениться и у нее, если вдруг возникнет новое сильное чувство к кому-то еще. А отчего оно могло бы возникнуть, понять было несложно. Во-первых, оно могло обладать таранной новизной, приоткрывающей новые пути к покуда непознанной духовной и сексуальной общности, тогда как защищать старые привычные крепостные стены без наращивания их прочности и высоты будет делаться всё трудней и трудней. Во-вторых, преодолеть соблазны и отстоять-таки крепость от чьего-то внешнего напора и энтузиазма можно было, образно говоря, только сражаясь вместе против общей угрозы, стоя спина к спине. Если же кто-то один в такой позе будет размахивать мечом, тогда как другой ничего делать не станет, успешной борьбы не получится. Для того, чтобы так не случилось, следовало вызывать, порождать или находить всё новые увлекательные для обоих супругов занятия души, ума и тела. Без этого устойчиво побеждать и себя, и носителей соблазна в интересах обеих сторон вряд ли можно было рассчитывать всерьез. Однако, мысленно перебирая события семейной жизни, я не мог обнаружить в действиях Лены чего-либо, напоминающего встречные сознательные действия, которые могли бы как-то соответствовать моим. Прав ли я был в своих выводах? Мне и теперь представляется, что был прав, желая бо?льшего во всем – и в обмене мыслями, и в познании нового, и в постели – чем это было прежде, Лене же нет – бо?льшего не хотелось ни там, ни там, ни там. Жаждала ли она какой-то интенсификации интеллектуального и духовного общения со мной, точно сказать не берусь, хотя склонен полагать, что скорее нет, чем да. В области же секса определенно нет. В этом я не мог заблуждаться. Здесь почти всякая моя инициатива встречала определенный отпор. Ну что ж. Стало быть в этом направлении мне ожидать было нечего. А то я думал, что там возможно приятное внесение разнообразия для нас обоих. Параллельно я замечал, что Лене все чаще хочется проводить свободное время не дома и не со мной. Дикой ревности это не порождало, но кое о чем мне хотелось знать более точно, чем: «собирались на вечеринку у той-то или того-то с другими коллегами по институту или еще даже по университету». Если смотреть в лицо фактам, а не прятать их от себя, это означало одно: интерес к кому-то вне дома превалировал над интересом совместного времяпрепровождения со мной. Выходит дело, мои усилия, направленные на укрепление «домашнего очага», оказались неэффективными, и тратить на это свои силы и старания впредь не имело смысла.
А ведь меня уже давно занимал вопрос – пока лишь в абстракции – есть ли у человека моральное право откликаться на сексуальные вызовы со стороны, когда у него имеется возможность дать страждущему и жаждущему то, в чем он нуждается, ничем не обделяя при этом свою законную половину? Ведь речь тут может идти только о гуманных поступках, совершаемых с использованием невостребованных главным партнером излишков – и ни о чем другом! Но если раньше эти мысли вращались в сфере абстракции, то теперь им стоило бы придать и более конкретный смысл, учитывая еще и то, что подобным образом можно хотя бы заделывать дыры в стене, о прочности и неподатливости которой разрушающим влияниям окружающего мира заботился слишком уж долго. Нет, скороспелых решений насчет сексуальной свободы в создавшихся обстоятельствах я не принял и даже прицела на какую-то определенную интрижку не взял. Случилось другое – я с сожалением принял как данность такое развитие семейных событий и понял, что мой иммунитет против супружеской измены дал серьезную трещину. Да и не только был подорван сам иммунитет – еще раньше исчезла прежняя уверенность, почти убеждение, что любовью можно вызвать такую же любовь, на том основании, что любовь всё может. Это убеждение оказалось ошибочным. Да, возможно, кое-когда любовь приводила у кого-то к желаемым результатам, но это были скорее редкие или даже очень редкие исключения, а не правило, тем более – не закон. Законом оказалось совсем другое – любовь либо есть – причем такая, какая есть – не больше, или её нет. И о возрастании её по ходу семейной жизни у того, в ком ее было меньше, речь не шла совершенно, зато вот об убывании – другое дело. Жизнь доказывала, причем во все эпохи и буквально на каждом шагу, что испаряться могли даже самые грандиозные чувства. Я не мог пожаловаться, что Лена меня не любила – жертвы с ее стороны я бы и не принял, но что наша любовная взаимность так и не сделалась равновесной, это признавала и она. Меня совсем не тянуло объяснять такое положение вещей тем, что в свои двадцать семь лет Лена еще не вышла замуж и над ней уже нависла угроза, что дальше так и не выйдет. Во-первых, она в любом случае была лучше очень многих других женщин, замужних и незамужних. Во-вторых, в стране, лишь недавно потерявшей в войне множество мужчин, в том числе и подходящих по возрасту девушкам Лениного поколения, так сказать, в силу нормального естества было бы просто гнусно браковать как «перестарок» женщин, оставшихся без мужей потому, что так было принято «в доброе старое время».
Я действительно очень дорожил тем, что пробудил в Лене встречное чувство, на какой бы основе оно ни возникло – на чисто эмоциональном уровне или с примесью разумных соображений. Повторяю – я знал, на что иду, и знал, что люблю больше, чем она, но это меня ничуть не остудило. Я смело пошел к заветной цели – к достижению равной взаимной любви, которая только и может вознести обоих на самые небеса, но в моем случае это оказалось только храбростью неведения. Ничего нового в таком обороте дела на Земле среди людей не было, и к этому – хочешь не хочешь – предстояло так или иначе приспосабливаться обоим – и Лене, и мне.
Излишне говорить, что мы это начали делать разными путями. Мне хотелось обрести красивую и возбуждающую женщину, наделенную хорошим вкусом и умом, не говоря уже о встречном чувстве. Лене, по всей вероятности, найти в новом мужчине более близкий ей по духу и профессионально более подходящий (то есть философский) интеллект, нежели мой.
Все получилось не вдруг и не очень скоро, но получилось удачно у обоих примерно в одно время. Для меня это была полоса поисков, открытий, обретений и разочарований (но не во всем и не во всех моих партнершах), пока мы с Мариной не встретили друг друга. К моменту распада нашего брака с Леной от его начала прошло шестнадцать лет. Мы расстались по-хорошему, не сказать, что совсем без боли – все-таки, как ни суди, жили мы, принося друг другу удовлетворение, а порой даже счастье, вместе прошли много трудных путей, вместе многому радовались и многое преодолевали, не разочаровывая друг друга – и вот всё это осталось в прошлом без продолжений, тогда как жизнь уже приучила продолжать всё «на па?ру». Сразу перестать замечать это из общего более чем полуторадесятилетнего прошлого не получалось, хотя освободиться, в конце концов, оказалось нетрудно, по крайней мере, мне. А всё потому, что Марина ни в чем, как минимум, не уступала Лене, а во многом заметно превосходила бывшую мою жену. Это касалось прежде всего любви и Марининой предрасположенности к тому, чтобы идти мне навстречу во всем, что могло быть приятным нам обоим. Она внимательней и с бо?льшим интересом, чем Лена, относилась к моей писательской, а затем и философской деятельности, понимая, что это – главное во мне и для меня после того, что дает мне и получает от меня она. Движения её души в мою сторону были столь явны и драгоценны, что я практически сразу обрел уверенность – да, в лице Марины я нашел одновременно всё, о чем мечтал с тех самых пор, как за двадцать четыре года до этого впервые понял, насколько незаменима любовь в деле достижения счастья. Ничего более важного, чем укрепление отношений любви и радости, связавших меня с Мариной, с тех пор для меня больше не было.
А в промежутке между жизнью с Леной и началом жизни с Мариной случалось всякое. И до того, как под неумолимым напором логики жизни лопнула моя сексуальная устойчивость к посторонним дамам, и после.
Помню (это относилось к первой поре), однажды мы с Леной ехали на электричке к платформе «Березки», от которой предстояло пройти еще минимум километров десять до деревни Полежайки на Истринском водохранилище, в самой глубине его длинного восточного залива. Там у нас и членов туристской компании на чердаке дома лесника хранились байдарки – они ждали нас от одних выходных до других. Прибыв в деревню, мы переносили свои суда к воде и шли на веслах еще от шести до десяти километров к какому-нибудь из живописных мысов на основном плёсе. Тогда еще и намека не было на то, во что превратятся через полвека сплошь застроенные трех – или более этажными виллами богатеев абсолютно все берега. А в то время, о котором я говорю, об Истринском водохранилище знали в основном одни рыбаки да туристы. Мы с Леной оба предвкушали удовольствие от предстоящей встречи с красивейшим в окрестностях Москвы искусственным озером и его водой. Напротив нас на лавке в электричке сидела супружеская пара. Это были, как и мы, молодые люди. У женщины со светлыми волосами в темно-зеленом платье, в котором она парилась от жары, было красивое лицо, но мне почему-то было трудно оторвать глаза от ее фигуры. Я, конечно, предпринимал усилия, чтобы не слишком на нее засматриваться, но делать это чертовски не хотелось. Нельзя было сказать, чтобы ее формы были как-то особенно эффектны, тем более, что платье на ней было вовсе не открытого фасона – разве что на груди оно не сходилось кромка к кромке узеньким мыском, и то не особенно глубоким, но меня распирало такое желание заполучить эту женщину голой в постели, что в пору было еще сильнее поразиться причине, по которой мне так ее хотелось, невзирая на присутствие жены. Отчетливо помню, что именно причины я тогда не мог постичь, хотя старался. Ладная ли она была? Да, ладная, но никак не в большой степени, чем Лена. Возбуждала ли она своим поведением или движениями? Нет, сидела достаточно спокойно, если не считать мучений от жары и вагонной духоты, особенно когда поезд надолго задерживали на перегоне, чтобы пропустить мимо скорый на Ленинград. Она не кокетничала, к своему мужу поворачивалась не часто, и он тоже редко обращался с чем-нибудь к ней. Я терялся в догадках насчет того, какому именно особому воздействию подвергся, тем более, что явного лучистого обаяния, как и признаков высокого интеллекта в ее глазах и лице так и не находил. И тогда мне, пожалуй, впервые в жизни пришла в голову собственная догадка о наличии какого-то особого присущего лишь этой женщине сексуального поля, которое нельзя ощутить ни зрением, ни обонянием, ни даже осязанием, и о котором можно догадаться только по возбуждению члена. Это было против всех моих представлений о природе влечения к женщине. До сих пор я был уверен, что обязательно должны иметь место видимые и доступные пониманию причины внезапной охоты к овладению женщиной – особо броское рельефное сложение, какая-то распущенность в поведении, знаки желания познать тебя, откровенная нагота. Ничего подобного не наблюдалось. Я даже чувствовал, что будь я свободен – и она тоже – она все равно не годилась бы мне в жены, потому что в жене мне требовались еще и обаяние, и интеллект, которыми она явно не отличалась. И все же необычайную остроту восприятия тяги к ее телу невозможно было отрицать. Я не узнавал сам себя. О чем шла речь? О неизвестном типе оружия женщин, без всяких видимых ухищрений поражающем воображение и рефлексы мужчин? Неужели под тонким, так легко осыпающимся слоем культуры, эстетических представлений и убеждений в избирательности своего влечения к женщине, управляемом разумно выверенными представлениями о предпочтительности и «подходящности» женщин именно для тебя, на самом деле выбор партнерши производится какой-то грубой бессознательной силой, которой дела нет до твоих умственных и духовных предпочтений и которая без всяких рассуждений (поскольку они – лишние) берет тебя если не за горло, то прямёхонько за детородный орган и сразу получает его в свое безграничное подчинение? Хорошо еще, что во мне сохранились еще какие-то тормоза, позволяющие выглядеть прилично – пусть только в сидячем положении. А так ведь ни присутствие Лены, ни мысленные напоминания себе о ней вроде бы уже не оказывали на меня никакого реального воздействия – хочу вот эту бабу – и всё!
Мне даже вспомнилась тогда врач – стоматолог – женщина с крупными и красивыми формами, которая прикасалась к моему боку бедром и тем вызывала почти аналогичное возбуждение. Но она все-таки КАСАЛАСЬ! И формы ее будоражили воображение ПРЯМО – именно этим она, бесспорно, превосходила женщину, сидевшую напротив в электричке, а тут-то ЧЕМУ я был обязан? Кто и что обвело вокруг пальца все мои привычные защитные меры против нарушения Лениной монополии на меня и на всё мое мужское хозяйство?
Дьявольских соблазнов, то есть вызванных к жизни собственно Дьяволом, я в то время в рассуждения не принимал, скорее был склонен усматривать дьявола в себе самом, настолько странно я себя повел по отношению к женщине, с которой никак не был знаком. Кстати, когда она с мужем вышла из вагона на какую-то платформу, и я впервые получил возможность увидеть ее в полный рост, впечатление от ее фигуры только усилилось. Естественно, этот инцидент не имел никаких других реальных последствий, кроме самопознавательного, но он нет-нет, да и вспоминался время от времени – когда через год, а когда и через десять лет, но из головы так и не уходил.
А уж когда «Лено-охранный» иммунитет явно сходил «на нет», возникали как внезапные, так и неожиданные торможения уже распаленного инстинкта, природу которых (я говорю о торможениях) я не мог понять.
Алексей Николаевич Уманский
Роман-исповедь, написанный от перврго лица, – это подводение итогов жизни человека, посвятившего себя размышлениям о бытии и путешествиям по родной стране, в природе которой он видит источник своих творческих сил. Жизнь на планете, заявляет автор в самом начале повествования, объясняя название романа, пребывает в пограничном слое, на стыке стихий – водной, воздушной и земляной; жизнь человека также протекает на стыке временных сред – прошлого и будущего. Память генетическая и память личностная, человеческая связывает эти среды, превращает их в нечто целостное. Память автора хранит множество событий, которыми он хочет поделиться со своими потомками. Неторопливый и обстоятельный рассказ о людях, сыгравших важную роль в жизни главного героя, о его чувствах к ним, спасает их от провала в небытие, позволяет оставаться в том пограничном слое, где только и может пребывать жизнь.
Алексей Уманский
В пограничном слое
Адресуется в первую очередь людям, убежденным в том, что мир создан именно для них.
«Органическая жизнь очень хрупкая. В любой момент планетарное тело может умереть. Оно всегда живет на волосок от смерти».
Георгий Иванович Гурджиев, «Беседы о сокровенном»
Введение
Чем больше он думал обо всем, с чем сталкивался в жизни, тем чаще возвращался к мысли, что всё наше человеческое существование проходит почти исключительно на границе двух сред, двух стихий, будь то Земля и Воздух или Вода и Воздух, тогда как в какой-либо одной из них длительное пребывание для людей невозможно. Да, шахтеры работают под поверхностью в толще Земли, но их работа никогда не добавляла здоровья. Напротив – их тяжкий труд в силикатной или каменно-угольной пыли, без солнечного света, под угрозой взрывов метана и обвалов породы в горных выработках всегда считался и вредным, и смертельно опасным несмотря на все предупредительные защитные меры.
Стихия Воды, в недрах которой когда-то зародилась жизнь на планете, тоже не совсем подходила для постоянного обитания людей. Да, водная среда была удобным, а часто даже единственным средством сообщения между разными местностями и континентами с давних пор. Но голые пловцы даже в жарких тропиках не могли находиться в воде бесконечно. Для благополучия своей жизни на воде и рядом с водой людям пришлось придумать искусственные опоры, возносящие их тела над водой, отделяющие на воде от воды, будь то плоты, лодки, корабли, то есть подвижные заменители почвы под ногами.
После изобретения воздухоплавания и летательных аппаратов тяжелее воздуха человек начал осваивать стихию Воздуха, но с тем же успехом, что и стихию Воды, то есть путем создания для себя искусственной опоры в воздухе, почти столь же невидимом, как пустота. Однако время пребывания в воздухе с помощью любого аппарата: самолета, планера, дельтаплана, параплана, вертолета, воздушного шара и даже дирижабля – еще более ограничено в сравнении с возможностями пребывания на воде в подходящем для условий плавания судне. Кончится горючее для мотора, истечет или охладится в оболочке газ, наконец – иссякнет терпение или работоспособность пилота, выйдет из строя хоть что-то в системе человек-машина – всё! Кранты! Неминуемо произойдет падение аппарата на землю с людьми, если последние не будут спасены парашютами или особой Милостью Божьей (необъяснимые случаи благополучного приземления после падения с большой высоты были известны. Один из них лично засвидетельствовал маршал К. К. Рокоссовский в своих мемуарах: у него на глазах был сбит немецкий самолет, пилот которого летел к земле без парашюта с высоты двух тысяч метров. Место падения летчика находилось рядом. Рокоссовский послал своих сопровождающих посмотреть, что стало. Велико же было его изумление, когда к нему подвели под руки сбитого пилота – тот шел на своих ногах! По этому поводу Рокоссовский заметил – если бы сам всего не видел, ни за что бы не поверил, что такое возможно).
По всему получается, что оставаться самим собой если не в абсолютном естестве (одежда и обувь-то современным людям все-таки необходимы), то по крайней мере в привычном психокомфортабельном статусе без воздуха вокруг себя и без тверди или ее подобия под ногами, будь то земля, палуба или подвесная система, человек не способен. Это стало особенно очевидно после первых космических полетов, в которых обитатели космических кораблей впервые столкнулись с невесомостью. Она оказалась столь могущественным врагом человеческой основы, что пришлось долго подбирать самые разные средства, чтобы худо-бедно примирить физиологию людей с условиями жизни и работы вне поля тяготения Земли в течение недель и месяцев. А ведь для космических полетов отбирали людей с образцовым здоровьем. Там ко всему надо привыкать как неумейкам, там всему надо обучаться так, словно космонавты не взрослые люди, а только что вышедшие из пеленок новички в жизни, потому что ориентироваться, передвигаться, питаться и отправлять свои надобности приходится необычным путем. А ведь до дальних полетов в космическом пространстве дело еще далеко не дошло. С околоземных орбит Земля еще представляется громадиной, хотя уже и обозримой со всех сторон в течение полутора часов и даже с Луны она выглядит крупнейшим небесным телом, способным напомнить людям, где их родина и куда бы им надо вернуться. Но если Земля станет малой светящейся точкой в нескончаемой ночи Космоса, неотличимой от любых других, люди потеряют и эту возможность знать, причем уверенно и без приборов, как им найти путь в потерявшийся из виду дом.
Гравитация превратила нас из облако-образных существ первой человеческой расы в нынешних людей пятой расы с тем костяком, мышцами и внутренними органами, какими мы привыкли себя ощущать, и иное нам не присуще, хотя мы уже хотим плавать не хуже китообразных в толще океанов, летать не хуже птиц и ни в чем не знать себе преград вопреки всем реалиям на поверхности Земли, ее суши и вод, к которым мы крепчайшим образом привязаны основными условиями существования, будь то притяжение Земли, температура и состав воздуха, качество почвы, существование других живых организмов в царствах Флоры и Фауны.
Но не только наша привязанность к планетарному пограничному слою предопределяет возможность ведения человеческой жизни на Земле. Мы не в меньшей степени зависим от пограничных эффектов, во множестве действующих в цивилизованном обществе. Именно в нем мы принадлежим к разным слоям социума сразу в целом ряде аспектов. Это слои образованных и необразованных, культурных и бескультурных, просветленных и духовно неразвитых, творчески активных и безразличных к творчеству, богатых и малоимущих, работающих хозяевами и работающих по принуждению, в частности – по найму. Там, где существа одного социального слоя отграничены по какому-либо признаку от других существ, мы снова встречаемся с ситуацией пограничного слоя. Здоровые отделяются от больных, инициативные от пассивных, ведущие от ведомых, властители от подданных.
Подобно тому, как электрону, вращающемуся вокруг ядра атома, необходимо получить или потерять энергию для того, чтобы «скакнуть» с одной устойчивой орбиты на другую, любому человеку необходимо затрачивать усилия для того, чтобы перейти из одного социального слоя в другой. А ведь на то, чтобы сохранить себя в одном слое, или, наоборот, покинуть его и перебраться в другой слой, практически и расходуется вся наша земная жизнь.
Однако не надо думать, что этим исчерпывается или заканчивается проблема пребывания человека в пограничном слое – она не имеет ни низшего, ни высшего предела существования – подобных его рождению или смерти. Особенность проблемы в том, что она неотрывна от бытия всех людей на протяжении всего интервала между упомянутыми конечными точками. Люди живут постоянно между двумя возможностями в любой момент времени – возможностью продолжить жизнь (если такова будет Воля Высших Сил) и возможностью умереть с бо?льшей или меньшей легкостью (если Воля Высших Сил будет иной). Да, в норме человеку не дано знать наперед, когда он умрет, но он имеет достаточно оснований полагать, что смерть может случиться гораздо раньше, чем он думает оказаться лицом к лицу с ней. Сознательно или неосознанно, вольно или невольно, он должен ощущать хрупкость своего бытия, поскольку оно проходит в пределах тонкого пограничного слоя, в котором между жизнью и смертью всего лишь какой-то шаг. Разумеется, большинство населения планеты не думает об этом постоянно. Но вряд ли кто-то из людей свободен от того, чтобы, вглядываясь в свои уже прожитые годы, не поразиться множеству случаев, когда турбулентность пограничного слоя внезапно подбрасывала его к самому пределу жизни и вдруг по неизвестной причине отбрасывала его назад. Тут уж невольно подумаешь о чудесах и о хрупкости бытия. То есть о своем постоянном пребывании в пределах тонкого пограничного слоя – очень уж много всего может случиться в нем и зачастую – совсем неожиданно. Многообразие переменчивых ситуаций таково, что заранее подготовиться ко всему их «ассортименту» просто немыслимо – слишком уж велико их число и несходство.
Однако людям не остается ничего другого кроме как жить в такой обстановке. И главное, что они могут противопоставить неожиданным и большей частью негативным воздействием на себя извне – это терпение и способность учиться и приспособляться, оставаясь по возможности теми же существами, какими они привыкли себя ощущать и считать.
То, что Михаил видел, оглядываясь на жизнь ближайших поколений, находившихся в его личном поле зрения, а также в письменной истории стран и народов минувших эпох, в легендах, дошедших до нас из тьмы предистории, воспринималось им как закономерный процесс, подчиняющий себе все постоянно происходящие перемены как будто бы вполне хаотичного характера и природы. Закономерностью, определяющей происходящее в Мире, был, как он понял, Принцип, установленный самим Творцом Мироздания, а именно Принцип постоянного внесения перемен и разнообразия в то, что Было Создано Им первоначально, благодаря саморазвитию, подконтрольному, однако, в итоге только Ему, Создателю. И в сущности генератором перемен и умножающегося разнообразия в ходе времени во вселенной, был пограничный слой, возникающий всякий раз, когда одна экспансивная стихия или существо или предмет посягает на консервативное состояние другой стихии или существа или предмета, заставляя последние сопротивляться переменам, которых они не жаждали. Однако, поскольку их не спрашивают, а подвергают тому или иному воздействию, им приходится пускать в ход все свои ресурсы, чтобы в возможно более полном объеме оставаться прежними, узнаваемыми для самих себя.
Мы хотим, но не умеем быть добрыми в полной мере. Почему? Да потому, что обидно быть добрыми, одновременно забывая о себе, хотя это наша прямая жизненная обязанность – ведь если в нашем мире сам не позаботишься о себе, никто о тебе не позаботится. Такова практика, из которой почти не бывает исключений, но по какой причине исключения все-таки случаются? Видимо, только в силу родства или добровольного поклонения. С родством – понятно, пусть даже оно по ходу времени всё больше утрачивает свою значимость. Поклонение – дело другое. Люди еще не утратили влияния друг на друга, и оно еще способно принимать ударные формы, будь то любовь, поражающее эстетическое воздействие на психику, признание потрясающего превосходства над тобой или высшая благодарность.
В сущности, наша жизнь и строится, в чем это от нас зависит, на стремлении служить тому, чему мы поклоняемся, а не тому, к чему нас обязывают либо принуждением, либо правилами исполнения своего морального и общественного долга. Нам бы стараться улучшиться, сделаться чище и совершеннее, однако под давлением обстоятельств, соблазнов и незрелости мы откладываем это на потом. Очищение своей духовной сути и даже развитие собственного тела перемещается, таким образом, с первого места в ряду наших целей на какое-то другое – второе, третье или четвертое и так далее, а то и оставляется без внимания совсем. Это можно не замечать всю свою жизнь, не испытывая ни тревог, ни сомнений насчет неблагоприятных последствий, но если перед самым уходом в Мир Иной у нас найдется миг для осознания будущности, то неизбежно нахлынет сожаление о напрасном и глупом забвении самого главного, что надлежало выполнить в мире земном. Душа и дух отлетят в Неведомое от ставшего без них мертвым бренного тела с тем, чтобы через какое-то время вернуться назад в новом телесном воплощении в новый цикл земного существования, и пока мысль о благе для тела не перестанет превалировать над мыслями о благе для вечного духа, нам никуда не вырваться из Сансары, из круга земных перевоплощений с новыми рождениями и с новыми смертями, хотя именно Промысел Божий, в силу которого мы оказались на планете Земля, если хорошенько подумать, обязывает нас стараться освободить себя от пут земных и от земного тяготения – короче – от земного бытия, где мы вынуждены достаточно недолго существовать и полоскаться в пограничном слое, где мы быстро изнашиваемся, вместо того, чтобы навеки приобщиться к постоянному существованию в Высших Мирах.
Как тут не вспомнить старые торгово-грузовые итальянские термины «брутто» и «нетто», которые означают соответственно «грязный» вес предмета во временной грубой (и в конце концов бесполезной) упаковке и «чистый» его вес, в котором мы и должны проявлять себя перед Лицом Предвечного в надежде, что в этом качестве мы сможем быть полезны Ему там, где постоянно обитают при Нем достаточно совершенные и невообразимо высокоразвитые существа. Итак, нам при каждом новом рождении на Земле (о чем, как помнится, нас никогда не спрашивают) надлежит пройти, проделать свой очередной смертный путь, освобождаясь в меру сил и способностей от бездуховной или низкодуховной телесной оболочки (а если точнее – от ее на себя решающего воздействия), путь, который в нескольких словах можно обозначить как «от своего состояния брутто к своему постоянному существованию нетто».
Эта разница между состояниями брутто и нетто во все времена оказывалась куда значительней, чем между видимым счастьем и горем, успехом и провалом, Добром и Злом в течение каждой отдельной жизни на этой Земле в тонком пограничном слое, пригодном для обитания человечества.
Возможно, даже не отдавая себе отчета в том, насколько он тонок, люди все-таки в образной форме представляли себе, мягко говоря, «скромность» его величины, раз уж с давних пор без возражений признавали правоту выражения неизвестного ныне мыслителя «от любви до ненависти – один шаг», равно как и истинность слов Наполеона Бонапарта «от великого до смешного всего один шаг», коль скоро обе поговорки фактически приведены к общему «одношаговому» знаменателю. А если подумать, то в тех же пределах заключен разброс всех самых важных и полярно противоположных параметров, характеризующих все наше существование от его начала и до конца.
Михаил Горский не считал себя человеком, хоть в чем-то принципиально отличным от других людей, и его даже устраивало, что его персона никогда не привлекала чрезмерного внимания к себе ни среди окружающих, ни со стороны различного рода государственно-социальных органов. В состоянии обыденности своего бытия ему уже давно думалось и работалось достаточно хорошо, чтобы не желать для себя другого. А, кроме того, он считал, что так лучше и точней представлять себе жизнь. Собственно, ему и не настолько много осталось жить, чтобы пытаться перейти к другому существованию на Земле в новом статусе и в новом слое. Пора уже было подбивать итоги жизни, чтобы додумать и домыслить весь накопившийся опыт и, если получится, представить его на обозрение и людям, и самому себе. Это он и говорит в дальнейшем от собственного лица.
Глава 1
Извлекут ли мои потомки что-то полезное для себя из опыта моей жизни и моих наблюдений? Как говорится – «почем я знаю?» Однако склоняюсь к выводу, что скорей всего – нет. С какой стороны ни взглянуть на это дело, оснований для оптимизма не увидишь. Вон – Спаситель человечества, будучи Сыном Божьим, принял облик людской, чтобы убедить всех смертных, что ОН не уклоняется ни от каких опасностей и страстей, с которыми люди сталкиваются на каждом шагу, и на ЭТОМ ОСНОВАНИИ заставить их поверить в истинность пути, указанного ИМ, к спасению человечества, к восторжествованию Царствия Божия на Земле – и что? Убедил, заставил поверить? Кое-кого – да! Причем крепко, по-настоящему. Они-то и образовали сонм христианских святых. А большинство уверовали в Христа в той или иной степени формально, ибо следовать путем, указанным и провозглашенным ИМ, то ли не смогли, то ли не захотели, то ли так до сих пор и не поторопились – и это за две тысячи лет! Церковь Христова не устает напоминать своей пастве ее обязанности, и та согласно кивает головами, как будто даже следует за своими пастырями в сутанах и рясах, а к состоянию, пригодному для осуществления Царствия Божия на Земле, так и не приходит. В чем дело? Не будем проклинать несовершенство человеческой породы – нет, не природы, а именно породы, произошедшее вследствие сексуальных возбуждений и усилий двух перволюдей и их прилежных последователей – от первого поколения детей Адама и Евы до нынешних. Но факт есть факт. Изменяясь очень во многих смыслах по отношению к предкам, потомки с удивительной стойкостью последовательно не изменяются в главном – не учатся на ошибках предшественников, предпочитая учиться почти исключительно на своих собственных. Почему? Да потому, что они как были, так и остаются одержимы страстями, которые значат для них гораздо больше, чем анализ причин и следствий, чем сознательный и самостоятельный поиск Истин, чем стремление искупить постоянно возрастающую без целеустремленного искупления карму собственной вечной духовной сущности.
Ну, а кто я такой на фоне других людей – как признавших для себя законом следовать учению Христа, так и не признавших? Такой же, как все! Как все, наделенный от рождения некоторыми способностями, о которых можно с известной осторожностью сказать, что они имеют отношение к Божественной Сущности нашего Небесного Творца, раз уж по Его Воле и Промыслу каждый из нас вправе произнести «Аз есьм». Это вроде как многообещающее начало питало у моих родителей надежду, а у меня самого даже определенную уверенность, что из меня может получиться если не что-то особенное, то все же хорошее. Родители не жалели сил, преподавая мне основы честной жизни, стремясь развить благие способности и приобщить к эстетике и культуре. И я им действительно очень многим в себе обязан, особенно тем, что считаю лучшим в себе.
Но воспитывали меня не только родители, стремившиеся к тому, чтобы я стал счастливым или хотя бы более счастливым, чем они, когда я сделаюсь самостоятельным или, по детской терминологии, «большим». Воспитывали еще и детский сад, прививающий первые опыты социального общения, и двор, и школа, и институт, и последовавшая за ним работа в разных местах – от завода до нескольких НИИ. Воспитывали – причем очень мощно – спортивные туристские походы и восхождения в горах. Короче – наряду с родителями у меня хватало и других воспитателей во мне самых разных представлений о жизни в семье и обществе и о том, как в них следует себя вести. Проявлялся ли во мне какой-либо собственный стержень, на который нанизывался шаг за шагом опыт личной жизни и опыт общения с другими людьми и со всякими структурами общества? Да, полагаю, что проявлялся. Не знаю, был ли этот стержень прям или хотя бы так слабо изогнут, как становой хребет здорового человека, но все же меня не оставляло ощущение, будто все познаваемое по ходу жизни действительно прилегало к некоему подобию хребта, который мне представлялся не очень определенной, но все же основой моей личности. Я развивался, любил, увлекаясь и разочаровываясь и снова увлекаясь, не отличаясь в этом смысле от подавляющего большинства других людей. Во мне накапливались знания и набирал силу скепсис, образующие в совокупности базу для выработки собственных суждений наряду со сведениями, почерпнутыми со стороны из книг, от учителей и из собственных разовых наблюдений. В этом смысле я был вполне нормален, то есть обычен, если исходить из представления о том, что норма – это нечто органически свойственное большинству, и не является какой-то центральной усредненной редкостью на фоне бесчисленных разбросов этих свойств как по их величине, так и направленности от центра на большие расстояния.
Да, объективно я был обычен, нормален. Как все, ходил в школу, не очень интенсивно, но все же проявлял себя пионером, хотя так называемого «Торжественного обещания» (как официально именовалась пионерская клятва) не давал. Однако кричать в ответ на стандартный призыв пионервожатых: «К борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовы!» – «Всегда готовы!» доводилось и мне. Как довелось стать и комсомольцем – уже с членским билетом в кармане «у сердца», как полагалось считать в соответствии с тогдашними правилами хорошего тона – отличаться от этой нормы и не хотелось («а чем я хуже других?») и не рекомендовалось, чтобы тобой специально не заинтересовались многочисленные надзирающие за плебсом лица и инстанции, и даже для того, чтобы не создавать себе затруднений при поступлении в ВУЗ, хотя в те времена поступать в институт было в общем не сложно.
Я был нормален еще и в том смысле, что женился по любви, и у нас с Леной сама собой без специальных стараний родилась дочка Аня, которую в силу этого безо всяких сомнений можно было считать дитем любви, причем она для всех оказалась желанной: и для родителей, и для обеих бабушек и для обоих дедушек, и особенно потому, что вполне удалась живостью, трогательностью, красотой и сообразительностью. Аня в четыре года практически сама научилась читать после того, как с помощью взрослых усвоила алфавит, с двух с половиной лет с удовольствием ходила в несложные походы и умела, когда стала постарше, разжигать костры, ставить палатку, грести на байдарке и делать всё остальное, к чему обязывает маршрут и походный быт. Я даже думал, что это привилось к ней навсегда. Но нет, оказалось иначе. Ане шел уже пятнадцатый год, когда мы с Леной разошлись, можно сказать, по-хорошему. И у нее была тогда связь с ее коллегой по философии Эдиком Соколовым и у меня нашлось счастье в любви с Мариной. В новых условиях жизни мое воспитывающее влияние на дочь свелось к минимуму. Пока Аня училась в школе, в ее новой семье еще по инерции ходили в походы. Впрочем, Эдик был на это не очень падок, и постепенно от походов отвыкли и Лена, и Аня.
Под влиянием моих родителей-архитекторов Аня собралась поступать в архитектурный институт. Я был совсем не уверен, что специальность, привязывающая человека к чертежной доске, особенно если он сам не чувствует к этому рвения, очень подходит для дочери. И хотя она интенсивно готовилась к вступительным экзаменам по рисунку, её не приняли, а я не очень огорчился. В ожидании приемной кампании в ВУЗы на следующий год Аню устроили работать в архитектурную мастерскую под начало давней приятельницы моей мамы Эмилии Саркисовны, и эта практика окончательно исцелила Аню от стремления поступить в архитектурный институт. Она решила пойти на философский факультет МГУ, который закончили и ее мама, и Эдик – второй отец. Этот выбор показался мне более удачным. Аня сдала все вступительные экзамены на пять, но её, несмотря на это, сперва даже не зачислили в студенты – политика властей была такова, чтобы в «идеологический ВУЗ» в первую очередь принимались льготники, отслужившие службу в армии, в войсках МВД или КГБ, так что льготники от военной сохи выбрали все квоты для поступающих сразу после школы. Но благодаря тому, что Лена и Эдик пустили в ход все свои знакомства с преподавателями философского факультета, Аня с трудом получила свое законное место, честно завоеванное в конкурентной борьбе и нечестно у нее оспоренное. Эта история многому научила мою дочь, да и меня тоже, хотя в отличие от Ани я к такому обороту дел был готов. А дальше у нее пошла жизнь, отделявшая нас друг от друга все больше и больше. Если не считать встреч, связанных с передачей денег (Лена не подавала на алименты, довольствуясь уверенностью, что я сам буду исправно их платить, в чем не ошиблась) мы с дочерью виделись очень редко. В первую зимнюю сессию, когда Ане предстоял экзамен по высшей математике, она попросила меня прояснить непонятные вещи в математическом анализе. Сам я не был вполне уверен, что смогу выступить успешным ментором, однако результаты превзошли все ожидания. Аня сдала экзамен на пять, а принимавшая его дама, профессор мехмата, искренне удивилась, что такая умная девушка пропадает на философском факультете, и предложила Ане перейти на свой родной мехмат, пообещав в помощь в обеспечении перехода. Аня не смогла объяснить доброжелательнице, что нет у нее подходящих для мехмата данных. Я, пожалуй, был солидарен больше с Аней, чем с профессором, которой знания моей дочери показались заслуживающими лучшего применения просто на фоне того убогого лепета, который она с отвратительной монотонностью выслушивала от большинства будущих философов. Но что было, то было: Аня приписала свой успех при сдаче экзамена почти исключительно моей помощи при подготовке к нему. Однажды – дело было уже на втором курсе, когда Марина на октябрьские праздники улетела повидаться с сыном Колей, начавшим летную службу в истребительном авиационном полку на границе с Афганистаном, Аня пригласила меня к себе в гости на вечеринку, чтобы я не чувствовал себя совсем одиноким. Кроме ее мужа Алеши, учившегося на журфаке МГУ, и ее бывшей одноклассницы по французской школе – красивой и очаровательной Тани Лавровой – я там не знал никого. Было небезинтересно сравнить студенческие вечеринки моего времени с нынешними. Особо разительных отличий вроде бы не наблюдалось. Просто всплески эмоций в компании чаще относились к тому, чего я не знал или к чему был безразличен. Изредка и я встревал в общий разговор и чувствовал, что удачно – все-таки было видно, что меня слушают не как Аниного предка, к которому из вежливости приходится проявлять терпение, несмотря на скуку, воздействием которой у слушателей появляется только одна мысль: «Господи, только бы поскорее он заткнулся!» Нет, на мои реплики реагировали с неподдельным интересом, и это вроде могло бы породить в моей голове иллюзию, будто бы я сам, разумеется, при наличии собственного желания, мог бы войти в этот круг молодых людей. И все-таки, несмотря на это, что-то внутри предупреждало, что такое невозможно, и не стоит сколько-нибудь обольщаться на этот счет. Это был сигнал из глубины существа, важное предупреждение – вроде того, какому внимают люди, обычно избегающие браков как будто с весьма подходящими партнерами, в поведении которых вдруг проявляет себя всего-навсего мелочь, и она-то, вопреки своей вроде бы ничтожной значимости, вдруг заставляет основательно усомниться в человеке – возможном будущем супруге и даже мгновенно представить в своем воображении, к чему способен привести опрометчивый шаг.
Нет, соблазняться мыслью, будто можно стать для молодежи «своим парнем» я, конечно, и не подумал. Просто промелькнул в мозгу с первого же взгляда в корне нереалистический вариант – и сразу померк, ничуть не поколебав прежних убеждений. А если говорить начистоту, то увиденное в этом молодежном обществе что-то сходное с самим собой в давнем прошлом, вовсе не стало поводом загрустить о безвозвратной потере прежних юных ощущений и ожиданий от жизни. Я совсем не желал повторить уже пройденный путь, как хотят для себя очень многие («Эх!» Сбросить бы мне двадцать-тридцать-сорок лет! Вот была бы жизнь!»). В этой ностальгической увлеченности пребыванием в состоянии молодости для меня не было ничего привлекательного. Я недоумевал: неужели кому-то действительно могло понравиться возвращение в младшие классы, по-старому – в приготовишки – после того, как субъект уже начал кое-что правильно понимать в действительном устройстве бытия и научился самостоятельно прокладывать в нем собственный курс?
Нынешние студенты были явно состоятельнее прежних, но это отнюдь не заставляло завидовать им. В дни моей юности бедность и нищета перекрывалась постоянной занятостью разными увлекательными делами, позволяющими в значительной мере отключить сознание от того, во что ты одет и обут, если только не хочешь понравиться особенно хорошо одетой девушке. Тогда да, мысль о внешней убогости и отсутствии «презентабельности» могла довольно остро воздействовать на настроение. И тут уж дальнейшее развитие событий зависело от девушки: если она была сто?ящей, то принимала тебя как такового, в чем ты есть; если же ты казался ей неподходящим по этой причине – что ж – тем было лучше и для тебя, незачем было связывать с такой ни своих надежд на счастье, ни, тем более, жизнь. Зато сколько радости приносили нам встречи за дружеским столом после туристских походов, все равно каких: после больших и дальних или ближних на выходные дни. Нынешним студентам походы были уже ни к чему, тем более, что они могли уединяться, как правило, в своих отдельных квартирах, а не в палатках в тайге или за городом, поскольку в комнату родителей в коммунальной квартире просто так девушку не приведешь, разве что если женишься. Уж в таких-то случаях родители принимали в свои семьи и невесток, и зятьев (смотря по тому, кто из них больше нуждался), чем бы сами ни обладали – комнатой или двумя в коммуналке или квартирой, где могли выделить отдельное помещение молодым. Надо думать, жизнь тогда все равно, как обычно, сама по себе диктовала старшим поколениям свои категорические императивы: дескать, вырастили до взрослого состояния детей, теперь вы должны обеспечить и получение внуков, как в свое время ваши родители вырастили вас и помогли вырастить ваших детей. Теперь эстафетная палочка непрерывного процесса служения будущности своей породы в ваших руках. Вот вы и держи?те ее в своих руках, пока не уроните или пока ее у вас не отберут. И на этом ваша всемирно-историческая роль как живых существ на Земле будет закончена. И после этого вам не стоит стараться продлевать свою жизнь вдвое-втрое против обычного – незачем вам занимать на этом свете места, уже запланированные для других существ, нарушая своим эгоистическим стремлением оставаться в плотном мире подольше входе системы смены поколений на достаточно тесной арене жизни. Это не соответствовало бы ни Промыслу Божиему, ни интересам тех, кто по воле Творца должен сменить вас. А уж они-то о своих интересах позаботятся, пожалуй, даже обстоятельнее, чем вы, когда вам пришло время исполнять свою взрослую роль.
Ну, и что остается делать? А просто рассматривать свою оказавшуюся в конце концов такой короткой жизнь как время пребывания в пограничном слое между прошлым и грядущим, зная уже, что это тоненькая-тоненькая временная среда нашего обитания и полумгновенная длительность происходящего на наших глазах. Почему «полу», а не мгновенная? Да оттого, что раз на раз не приходится. Иное мгновение растягивается на годы, зато случается, что и года воспринимаются всего лишь немногими мелькнувшими и пропавшими мгновениями.
Растяжимость и сжимаемость разных отрезков времени в памяти каждого человека свои. Но несмотря на пластичность природы памяти, она нередко обнаруживает и свою хрупкость. Есть вещи, подвергшиеся в ней разрушению, размыванию, даже аберрации (собственно, у многих людей это самое обыкновенное дело), но некоторые вещи остаются при человеке нетленными, в первозданном виде. И это прежде всего любовь и ее первая производная по времени – секс. Впрочем, многие полагают, опираясь на физиологическую основу сущности людей, что все обстоит как раз наоборот. В их представлении первородным является секс, а уж от него-то первая производная – любовь, хотя только та её, правда, главная разновидность, которая во множестве случаев управляет особыми, причем не только сексуальными, отношениями между полами. Я не ставил перед собой задачей установить, что первично – любовь или секс – ни теперь, прежде. Но уж то, как они между собой могут соотноситься – это да – всегда занимало и, наверное, еще будет занимать меня.
Лично я принадлежу к тому поколению, в котором большинство моих сверстников и сверстниц познали любовь раньше, чем секс, или, если быть более точным – чем сексуальные образы и мечты смогли воплотиться в реальность. С тех пор, и уже достаточно давно, многое переменилось. Пожалуй, уже бо?льшая часть юных, вступивших в пору полового созревания, сначала постигают сексуальные радости сближений и лишь потом особо ценные душевные и духовные взлёты (мне все-таки претит мысль, что из-за этого они вообще лишают себя полноценных ощущений любви). С чего бы ни начать, лишь бы придти к гармонии – вот это самое трудное и важное. И совсем немногим удается удостоиться счастья взаимного обретения сразу на всю жизнь, без долгих поисков после очарований и разочарований, неоднократно следовавших одно за другим. Мне выпало принадлежать к большинству и в этом смысле, то есть испытывать сильнейшее тяготение к предметам мечтаний – сначала к девочкам-девушкам, затем к женщинам, чье обаяние и красота порождали любовь и желание обладать ими, даже обретать с некоторыми из них иллюзию высшей гармонии, прежде чем я смог вполне удостовериться в том, что гармония в моей жизни действительно есть, что она знаменует почти каждый ее день почти в любых ситуациях благодаря любви женщины, чьим избранником стал я, и кого моя любовь сделала моей избранницей.
Марина вошла в мою жизнь, когда мне исполнилось тридцать семь лет, и чувство к ней во мне немало всего преобразило. Не вдруг, не сразу. Ведь во мне уже сидела инерция прожитых лет, удачных и неудачных поисков и обретений; она глубоко проникла в психику, будь то сознание, а то и подкорка, и не могла испариться в один момент. Кредо каждого в большинстве случаев формируется под влиянием хода жизни, которая у него есть, даже если в голову изначально уже были внесены какие-то ожидания и схемы – не зря же нас снабжают ими с ранних детских лет, рассказывая сказки, читая вслух соответствующие повести, пока мы не принимаемся читать их самостоятельно, постепенно переходя к романам, приносящим нам опыт жизни, счастья и судьбы посторонних людей. Но как бы глубоко ни укоренились схематические представления о способах обретения счастья, жизнь заставляет корректировать их в соответствии с выводами, которые каждому приходится делать самому после анализа событий, из которых раз за разом становится более отчетливо видной твоя судьба, какая она ни есть, а еще подозрение – не требуется ли тебе что-то менять в себе ради осуществления мечты.
Естественно, и я к своим итоговым выводам пришел не сразу. Первая любовь нахлынула на меня в тринадцать лет, и это был обвал всех прежних представлений о смысле и ценности жизни. Все мое сознание было целиком перевербовано в пользу любви. А что я о ней мог знать кроме того, что мысли о моей ровеснице Ирочке Голубевой, не дают мне покоя ни днем, ни ночью, ни дома, ни в школе – короче, никогда и нигде? Сейчас не имеет смысла вспоминать детали новейшего и сильнейшего наваждения, которое без спроса и предупреждения навалилось на меня – важным навсегда стало другое: я понял, что это – любовь, и что отныне я должен служить именно ей, то есть любви, которая предстала передо мной в образе Ирочки, но не была полностью тождественна Ирочке даже в моем еще совсем не искушенном мозгу. Любовь, в отличие от Ирочки, была не только конкретным понятием (ведь я знал, кого любил), но и высшей абстракцией, высшей и отличной от любого ее реального предмета, главной целевой функцией, какая только может быть усмотрена в жизни, и одновременно генератором высшего возможного эмоционального состояния, доступного смертным. Разумеется, тогда я еще не знал и не находил таких слов для характеристики любви, но я совершенно определенно утверждаю, что всё это понял и провидел без слов, без малейшего (за исключением родственного) опыта, поскольку любовь вызывала более мощное чувство и тяготение к постороннему человеку, чем к любому родному человеку, включая мать и отца. Я достаточно долго пытался разобраться – нет, не в причинах, скорее в последствиях, вызываемых чувством любви, раз уж она оказалась практически всевластной, и постепенно начал как будто бы понимать. С непреложностью стало ясно, что жить необходимо КАК-ТО по-другому, чем до ЭТОГО, хотя в голове еще не созрело представление о том, как и в чем именно надо изменить свою жизнь, чтобы она могла удовлетворять велениям любви, хотя большая часть этих требований пока была недостаточно ясной. Однако главное все же сразу сделалось понятным – любви отдается высший приоритет перед всеми другими делами, вещами, занятиями. Даже такому несмышленышу, каким тогда, без сомнения, предстал перед ликом любви я, не требовалось доказывать, что это именно так, а не иначе – любовь теперь просто по определению была превыше всего, а если она чего-то не превосходила, значит, это не заслуживало ни названия, ни определения настоящей любви. Данное убеждение не оставляло меня и в дальнейшем, когда прошла любовь к Ирочке Голубевой и началась к Ирочке Розенфельд, а там и к Инночке Буриной и так далее, когда я уже имел представление и о невостребованности своей любви, и о разочаровании в ее объекте, и о том, что любовь не только способна, но и обязана возрождаться, потому что без этого не сто?ит существовать. Набираемый мною опыт заставлял вносить коррективы в свои представления о любви, которые, впрочем, никогда не касались главного. Да, я обнаружил, что любовь как высшая воодушевляющая сила, вызванная чарами внушающей ее дамы, нуждается не только в удовлетворении (на первых порах – еще не сексуальном), то есть во взаимном встречном чувстве, но и в охранении ее достоинства внутри себя от посягательств с любой стороны, даже со стороны ее предмета, ибо она представляет собой высшую ценность среди всего, что у тебя есть и ПОТОМУ допускать над ней глумления, даже просто пренебрежения ею не к лицу никому, кто считает, что любит. Таковы были начальные постижения, и каждое из них, подобно тому, как инструкции по полетам писались кровью летчиков, писалось кровью не находящего покоя сердца. Если кому-то покажется, что это слишком выспренное представление о реальности бытия любящего человека, то не мне. О любви я думал всегда – и когда я чувствовал ее, и когда она терзала меня, и когда её вдруг больше вообще не оказывалось, а вместо нее внутри воцарялась ПУСТОТА, едва ли не напрочь истребляющая смысл всего окружающего тебя, и жизнь поддерживалась только привычкой к ней, да еще желанием проявить достаточную стойкость ради того, чтобы не вызывать к себе жалости ни со стороны, ни изнутри себя, и сохранить даже в раздавленном состоянии видимость несломленного человека. В общем, это напоминало борьбу с самим собой не на жизнь, а на смерть, в ходе которой ты не должен сметь демонстрировать свою убитость, тогда как у тебя в душе нет ни любви, ни надежд на возрождение. Это я тоже прошёл не раз и не два, хотя все еще мучился только испытанием однобоко духовной любви, а не той полноценной, когда воодушевление сочетается с сексом, постепенно все больше заявляющем о себе, но пока никак не фокусирующимся на том же объекте, который вызвал к себе так называемую «чистую любовь».
Наконец, в возрасте двадцати одного года я обрел составляющие полноценной любви в лице своей первой жены Лены. К ней у меня возникло чувство любви, которое все возрастало по мере углубления знакомства. С ее стороны, как мне думалось, было примерно то же самое. Перед нашей свадьбой я уже закончил четвертый курс, а она – третий год обучения в аспирантуре. Разница лет не имела для меня никакого значения. Когда я проходил летнюю производственную практику после завершения четвертого курса в Запорожье, Лена приехала туда ко мне, страдающему без нее от одиночества. Там мы фактически и стали мужем и женой. До нее у меня не было женщины, и я у нее тоже оказался первым.
Половая жизнь, начатая нами в Запорожье, продолжалась потом со всей возможной для меня интенсивностью в Москве и в любом месте, куда благодаря общей увлеченности туристскими походами мы ни забредали. Эта новая сфера любовного общения открыла новые горизонты, не закрыв уже известных в годы романтических и целомудренных увлечений. Лена не ограничивала меня и мой пыл без особых причин, и близость в соитиях настолько существенно украшала нашу будничную жизнь, что мне и в голову не приходило попытаться расцветить ее еще большим внесением разнообразия за счет связей на стороне. Не стану врать – иногда соблазны при знакомстве кое с кем из женщин будоражили и возбуждали меня, но с этим удавалось справляться, оставаясь в рамках преданности своей избраннице без особого напряжения – ведь мне всегда было ясно, что Лена лучше других женщин, даже если те тоже были очень хороши. Именно тогда я начал понимать, что поддержание любви к своей жене в течение всей жизни означает постоянную работу в интересах сохранения союза. С одной стороны, надо было удерживать себя в узде, когда инстинкты побуждали проявить серьезный интерес к другим привлекательным дамам, будь то девушки или замужние женщины, что казалось мне естественной обязанностью, даже участью, любящего женатого мужчины. И хотя изгнать из основы своего биологического существа органически присущий ему инстинкт размножения, который побуждал пользоваться каждой подходящей и благоприятной ситуацией, нечего было надеяться, я противопоставил его воздействию своё сознание и волю к тому, чтобы всё, порождаемое этим инстинктом, продолжало принадлежать одной Лене и доставалось только ей.
Так и продолжалось у меня с Леной в течение семи лет, и я ни разу не пожалел ни о своем выборе единственной женщины, ни о своей верности ей. Однако постепенно до моего сознания стало доходить, что для противодействия своим и чужим свободным сексуальным валентностям (а таковые несомненно оставались в недрах управляющей психики каждого существа, в том числе и моей) и подавления их воздействия одного моего личного старания мало. Дальнейшее сохранение верности надо было постоянно поддерживать с обеих сторон. Перебирая в уме возможные варианты близости с другими женщиными, от которых я отказывался, я всё более определенно склонялся к выводу, что это и впредь будет иметь смысл, только если Лена будет поступать точно так же, как я – ведь не приходилось же сомневаться, что и ей по жизни будут встречаться перспективные и соблазнительные знакомства, как это случалось у меня. Возможно, серьезных испытаний для неё они ещё не представляли, поэтому о противостоянии возможному влечению на сторону она пока не заботилась, но ведь всё могло измениться и у нее, если вдруг возникнет новое сильное чувство к кому-то еще. А отчего оно могло бы возникнуть, понять было несложно. Во-первых, оно могло обладать таранной новизной, приоткрывающей новые пути к покуда непознанной духовной и сексуальной общности, тогда как защищать старые привычные крепостные стены без наращивания их прочности и высоты будет делаться всё трудней и трудней. Во-вторых, преодолеть соблазны и отстоять-таки крепость от чьего-то внешнего напора и энтузиазма можно было, образно говоря, только сражаясь вместе против общей угрозы, стоя спина к спине. Если же кто-то один в такой позе будет размахивать мечом, тогда как другой ничего делать не станет, успешной борьбы не получится. Для того, чтобы так не случилось, следовало вызывать, порождать или находить всё новые увлекательные для обоих супругов занятия души, ума и тела. Без этого устойчиво побеждать и себя, и носителей соблазна в интересах обеих сторон вряд ли можно было рассчитывать всерьез. Однако, мысленно перебирая события семейной жизни, я не мог обнаружить в действиях Лены чего-либо, напоминающего встречные сознательные действия, которые могли бы как-то соответствовать моим. Прав ли я был в своих выводах? Мне и теперь представляется, что был прав, желая бо?льшего во всем – и в обмене мыслями, и в познании нового, и в постели – чем это было прежде, Лене же нет – бо?льшего не хотелось ни там, ни там, ни там. Жаждала ли она какой-то интенсификации интеллектуального и духовного общения со мной, точно сказать не берусь, хотя склонен полагать, что скорее нет, чем да. В области же секса определенно нет. В этом я не мог заблуждаться. Здесь почти всякая моя инициатива встречала определенный отпор. Ну что ж. Стало быть в этом направлении мне ожидать было нечего. А то я думал, что там возможно приятное внесение разнообразия для нас обоих. Параллельно я замечал, что Лене все чаще хочется проводить свободное время не дома и не со мной. Дикой ревности это не порождало, но кое о чем мне хотелось знать более точно, чем: «собирались на вечеринку у той-то или того-то с другими коллегами по институту или еще даже по университету». Если смотреть в лицо фактам, а не прятать их от себя, это означало одно: интерес к кому-то вне дома превалировал над интересом совместного времяпрепровождения со мной. Выходит дело, мои усилия, направленные на укрепление «домашнего очага», оказались неэффективными, и тратить на это свои силы и старания впредь не имело смысла.
А ведь меня уже давно занимал вопрос – пока лишь в абстракции – есть ли у человека моральное право откликаться на сексуальные вызовы со стороны, когда у него имеется возможность дать страждущему и жаждущему то, в чем он нуждается, ничем не обделяя при этом свою законную половину? Ведь речь тут может идти только о гуманных поступках, совершаемых с использованием невостребованных главным партнером излишков – и ни о чем другом! Но если раньше эти мысли вращались в сфере абстракции, то теперь им стоило бы придать и более конкретный смысл, учитывая еще и то, что подобным образом можно хотя бы заделывать дыры в стене, о прочности и неподатливости которой разрушающим влияниям окружающего мира заботился слишком уж долго. Нет, скороспелых решений насчет сексуальной свободы в создавшихся обстоятельствах я не принял и даже прицела на какую-то определенную интрижку не взял. Случилось другое – я с сожалением принял как данность такое развитие семейных событий и понял, что мой иммунитет против супружеской измены дал серьезную трещину. Да и не только был подорван сам иммунитет – еще раньше исчезла прежняя уверенность, почти убеждение, что любовью можно вызвать такую же любовь, на том основании, что любовь всё может. Это убеждение оказалось ошибочным. Да, возможно, кое-когда любовь приводила у кого-то к желаемым результатам, но это были скорее редкие или даже очень редкие исключения, а не правило, тем более – не закон. Законом оказалось совсем другое – любовь либо есть – причем такая, какая есть – не больше, или её нет. И о возрастании её по ходу семейной жизни у того, в ком ее было меньше, речь не шла совершенно, зато вот об убывании – другое дело. Жизнь доказывала, причем во все эпохи и буквально на каждом шагу, что испаряться могли даже самые грандиозные чувства. Я не мог пожаловаться, что Лена меня не любила – жертвы с ее стороны я бы и не принял, но что наша любовная взаимность так и не сделалась равновесной, это признавала и она. Меня совсем не тянуло объяснять такое положение вещей тем, что в свои двадцать семь лет Лена еще не вышла замуж и над ней уже нависла угроза, что дальше так и не выйдет. Во-первых, она в любом случае была лучше очень многих других женщин, замужних и незамужних. Во-вторых, в стране, лишь недавно потерявшей в войне множество мужчин, в том числе и подходящих по возрасту девушкам Лениного поколения, так сказать, в силу нормального естества было бы просто гнусно браковать как «перестарок» женщин, оставшихся без мужей потому, что так было принято «в доброе старое время».
Я действительно очень дорожил тем, что пробудил в Лене встречное чувство, на какой бы основе оно ни возникло – на чисто эмоциональном уровне или с примесью разумных соображений. Повторяю – я знал, на что иду, и знал, что люблю больше, чем она, но это меня ничуть не остудило. Я смело пошел к заветной цели – к достижению равной взаимной любви, которая только и может вознести обоих на самые небеса, но в моем случае это оказалось только храбростью неведения. Ничего нового в таком обороте дела на Земле среди людей не было, и к этому – хочешь не хочешь – предстояло так или иначе приспосабливаться обоим – и Лене, и мне.
Излишне говорить, что мы это начали делать разными путями. Мне хотелось обрести красивую и возбуждающую женщину, наделенную хорошим вкусом и умом, не говоря уже о встречном чувстве. Лене, по всей вероятности, найти в новом мужчине более близкий ей по духу и профессионально более подходящий (то есть философский) интеллект, нежели мой.
Все получилось не вдруг и не очень скоро, но получилось удачно у обоих примерно в одно время. Для меня это была полоса поисков, открытий, обретений и разочарований (но не во всем и не во всех моих партнершах), пока мы с Мариной не встретили друг друга. К моменту распада нашего брака с Леной от его начала прошло шестнадцать лет. Мы расстались по-хорошему, не сказать, что совсем без боли – все-таки, как ни суди, жили мы, принося друг другу удовлетворение, а порой даже счастье, вместе прошли много трудных путей, вместе многому радовались и многое преодолевали, не разочаровывая друг друга – и вот всё это осталось в прошлом без продолжений, тогда как жизнь уже приучила продолжать всё «на па?ру». Сразу перестать замечать это из общего более чем полуторадесятилетнего прошлого не получалось, хотя освободиться, в конце концов, оказалось нетрудно, по крайней мере, мне. А всё потому, что Марина ни в чем, как минимум, не уступала Лене, а во многом заметно превосходила бывшую мою жену. Это касалось прежде всего любви и Марининой предрасположенности к тому, чтобы идти мне навстречу во всем, что могло быть приятным нам обоим. Она внимательней и с бо?льшим интересом, чем Лена, относилась к моей писательской, а затем и философской деятельности, понимая, что это – главное во мне и для меня после того, что дает мне и получает от меня она. Движения её души в мою сторону были столь явны и драгоценны, что я практически сразу обрел уверенность – да, в лице Марины я нашел одновременно всё, о чем мечтал с тех самых пор, как за двадцать четыре года до этого впервые понял, насколько незаменима любовь в деле достижения счастья. Ничего более важного, чем укрепление отношений любви и радости, связавших меня с Мариной, с тех пор для меня больше не было.
А в промежутке между жизнью с Леной и началом жизни с Мариной случалось всякое. И до того, как под неумолимым напором логики жизни лопнула моя сексуальная устойчивость к посторонним дамам, и после.
Помню (это относилось к первой поре), однажды мы с Леной ехали на электричке к платформе «Березки», от которой предстояло пройти еще минимум километров десять до деревни Полежайки на Истринском водохранилище, в самой глубине его длинного восточного залива. Там у нас и членов туристской компании на чердаке дома лесника хранились байдарки – они ждали нас от одних выходных до других. Прибыв в деревню, мы переносили свои суда к воде и шли на веслах еще от шести до десяти километров к какому-нибудь из живописных мысов на основном плёсе. Тогда еще и намека не было на то, во что превратятся через полвека сплошь застроенные трех – или более этажными виллами богатеев абсолютно все берега. А в то время, о котором я говорю, об Истринском водохранилище знали в основном одни рыбаки да туристы. Мы с Леной оба предвкушали удовольствие от предстоящей встречи с красивейшим в окрестностях Москвы искусственным озером и его водой. Напротив нас на лавке в электричке сидела супружеская пара. Это были, как и мы, молодые люди. У женщины со светлыми волосами в темно-зеленом платье, в котором она парилась от жары, было красивое лицо, но мне почему-то было трудно оторвать глаза от ее фигуры. Я, конечно, предпринимал усилия, чтобы не слишком на нее засматриваться, но делать это чертовски не хотелось. Нельзя было сказать, чтобы ее формы были как-то особенно эффектны, тем более, что платье на ней было вовсе не открытого фасона – разве что на груди оно не сходилось кромка к кромке узеньким мыском, и то не особенно глубоким, но меня распирало такое желание заполучить эту женщину голой в постели, что в пору было еще сильнее поразиться причине, по которой мне так ее хотелось, невзирая на присутствие жены. Отчетливо помню, что именно причины я тогда не мог постичь, хотя старался. Ладная ли она была? Да, ладная, но никак не в большой степени, чем Лена. Возбуждала ли она своим поведением или движениями? Нет, сидела достаточно спокойно, если не считать мучений от жары и вагонной духоты, особенно когда поезд надолго задерживали на перегоне, чтобы пропустить мимо скорый на Ленинград. Она не кокетничала, к своему мужу поворачивалась не часто, и он тоже редко обращался с чем-нибудь к ней. Я терялся в догадках насчет того, какому именно особому воздействию подвергся, тем более, что явного лучистого обаяния, как и признаков высокого интеллекта в ее глазах и лице так и не находил. И тогда мне, пожалуй, впервые в жизни пришла в голову собственная догадка о наличии какого-то особого присущего лишь этой женщине сексуального поля, которое нельзя ощутить ни зрением, ни обонянием, ни даже осязанием, и о котором можно догадаться только по возбуждению члена. Это было против всех моих представлений о природе влечения к женщине. До сих пор я был уверен, что обязательно должны иметь место видимые и доступные пониманию причины внезапной охоты к овладению женщиной – особо броское рельефное сложение, какая-то распущенность в поведении, знаки желания познать тебя, откровенная нагота. Ничего подобного не наблюдалось. Я даже чувствовал, что будь я свободен – и она тоже – она все равно не годилась бы мне в жены, потому что в жене мне требовались еще и обаяние, и интеллект, которыми она явно не отличалась. И все же необычайную остроту восприятия тяги к ее телу невозможно было отрицать. Я не узнавал сам себя. О чем шла речь? О неизвестном типе оружия женщин, без всяких видимых ухищрений поражающем воображение и рефлексы мужчин? Неужели под тонким, так легко осыпающимся слоем культуры, эстетических представлений и убеждений в избирательности своего влечения к женщине, управляемом разумно выверенными представлениями о предпочтительности и «подходящности» женщин именно для тебя, на самом деле выбор партнерши производится какой-то грубой бессознательной силой, которой дела нет до твоих умственных и духовных предпочтений и которая без всяких рассуждений (поскольку они – лишние) берет тебя если не за горло, то прямёхонько за детородный орган и сразу получает его в свое безграничное подчинение? Хорошо еще, что во мне сохранились еще какие-то тормоза, позволяющие выглядеть прилично – пусть только в сидячем положении. А так ведь ни присутствие Лены, ни мысленные напоминания себе о ней вроде бы уже не оказывали на меня никакого реального воздействия – хочу вот эту бабу – и всё!
Мне даже вспомнилась тогда врач – стоматолог – женщина с крупными и красивыми формами, которая прикасалась к моему боку бедром и тем вызывала почти аналогичное возбуждение. Но она все-таки КАСАЛАСЬ! И формы ее будоражили воображение ПРЯМО – именно этим она, бесспорно, превосходила женщину, сидевшую напротив в электричке, а тут-то ЧЕМУ я был обязан? Кто и что обвело вокруг пальца все мои привычные защитные меры против нарушения Лениной монополии на меня и на всё мое мужское хозяйство?
Дьявольских соблазнов, то есть вызванных к жизни собственно Дьяволом, я в то время в рассуждения не принимал, скорее был склонен усматривать дьявола в себе самом, настолько странно я себя повел по отношению к женщине, с которой никак не был знаком. Кстати, когда она с мужем вышла из вагона на какую-то платформу, и я впервые получил возможность увидеть ее в полный рост, впечатление от ее фигуры только усилилось. Естественно, этот инцидент не имел никаких других реальных последствий, кроме самопознавательного, но он нет-нет, да и вспоминался время от времени – когда через год, а когда и через десять лет, но из головы так и не уходил.
А уж когда «Лено-охранный» иммунитет явно сходил «на нет», возникали как внезапные, так и неожиданные торможения уже распаленного инстинкта, природу которых (я говорю о торможениях) я не мог понять.