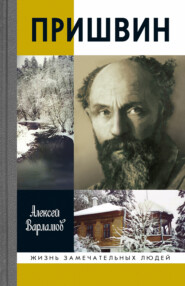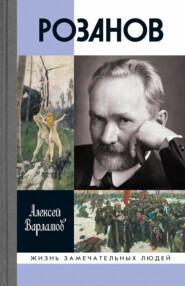По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Душа моя Павел
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Значит, они мне будут ближе и мы скорее с ними подружимся.
– А как ты собираешься учиться и содержать семью?
– Не знаю, придумаю что-нибудь, – сказал Павлик беспечно. – Мне кажется, я легко смогу деньги зарабатывать. Это несложно.
– Да ну? – усмехнулась она.
– Ну да, – ответил Павлик так уверенно, что в глазах его собеседницы мелькнуло что-то уважительное, но тотчас рассеялось, когда он понес свою обычную чушь: – А еще я хочу, чтобы наша страна стала больше. Я когда смотрю на карту, то думаю: нам надо присоединить к себе Швецию и Иран.
– Зачем? – опешила Алена.
– Иран, – заговорил Непомилуев деловито, – чтобы всё Каспийское море было наше. А Швеция на тигра похожа, и нам ее не хватает, чтобы наша карта была еще красиве?й.
– Краси?вей.
– Красивей, – повторил Павлик послушно. – А еще нам нужны острова в океанах. У нас очень мало своих островов. Ну то есть не очень мало, конечно, – задумался он, – но надо, чтобы было больше.
Алена остановилась и посмотрела на него:
– Ты в детстве в ножички не наигрался, мальчик? У нас своей земли столько, что мы с ней чего делать не знаем. Куда нам другая?
– Вот увидишь, наши дети не успеют вырасти, – воскликнул Павлик, – а в СССР войдут новые страны, на нашем гербе появятся новые ленты на новых языках, и мы станем всех защищать до тех пор, пока у нас совсем не останется врагов.
– Ну уж это дудки, – возразила Алена. – Я такого будущего не желаю. Я вообще хочу отсюда уехать.
– Куда?
– А куда угодно. Лишь бы отсюда. Но больше всего – в Испанию. В школе у нас был английский, и я учила тексты про Лондон. В университете – испанский, и я зубрю тексты про Мадрид и Гранаду, но мне иногда кажется, что все эти города – обратная стороны Луны. Они есть, и их нет. А я не хочу прожить всю жизнь за стеной! Я когда представляю, что где-то есть Париж и там сейчас люди кофе на бульварах пьют, каштаны едят, а в Италии, я читала про это в «Ровеснике», в ночных барах Вивальди слушают, меня знаешь какая тоска и зависть берет? Я себя тогда как эти мальчишки несчастные деревенские чувствую. За что нас тут заперли? Чем мы провинились? Я хочу мир увидеть.
Платок у нее сбился, волосы растрепались, рассыпались по куртке – она единственная из девчонок ходила не в телогрейке, а в красивой заграничной куртке и в настоящих американских джинсах. Павлик спросил ее однажды, откуда у нее джинсы, которые нельзя было даже в Пятисотом купить, и зачем она их в поле носит, если это такая ценная вещь. «А ты смотри какой, оказывается, практичный, – засмеялась Алена. – Девушкам такие вопросы не задают».
– Платок одень, – сказал он заботливо. – Простудишься.
– Надень. Сколько раз я тебе говорила: надеть одежду, одеть Надежду.
– Надень. Не знаю, а я в Испанию точно не хочу. Когда армейцы поехали в семьдесят втором играть в Севилью, я так переживал, что их там могут убить франкисты. Может, это и глупо, но всё равно я знаю, что у нас лучше, – добавил он упрямо, – и никто меня в этом не переубедит.
– Послушай, Паша, а ты уверен в том, что люди, которые там живут – ну где-нибудь в Швеции или Иране, – не думают точно так же, как ты? Ну, что у них лучше всего?
– Конечно нет! – воскликнул Павлик. – А если они так думают, то это ошибка. Если они до сих пор не хотят к нам в СССР, то лишь потому, что не знают, как это прекрасно – быть в СССР.
– А почему же тогда те, кто уже в СССР, мечтают отсюда сбежать?
– Кто это мечтает? – возмутился Непомилуев.
– Да кто угодно. Если бы загранпаспорта давали, полстраны бы завтра уехало.
– Это неправда! – крикнул Павлик, и так обидно ему стало, что именно Алена эти ужасные слова говорит. Он от возмущения сжал кулаки и даже укусил себя за большой палец, чтобы сдержаться и не закричать.
– Правда-правда. А прибалты все до одного хотят, – добавила она мстительно, – да еще со своей землей и морем.
– Ты откуда знаешь? – захлебнулся Павлик.
– Я литовка по отцу. Эляна. И попробуй расскажи у нас в Литве или в Эстонии кому-нибудь про твой СССР. Засмеют либо побьют. А чехословаки в шестьдесят восьмом?
Про прибалтов – нет, а про чехословаков Непомилуев знал. Отец рассказывал, когда мама еще была жива. Это случилось после того, как сборная СССР, только на этот раз по хоккею, выиграла чемпионат мира в Праге, и, когда зазвучал советский гимн и взметнулось надо льдом красное полотнище с серпом и молотом, трибуны вдруг засвистели. Трансляция была прямая, и никак этот свист убрать было нельзя.
«А чегой-то они хулиганят? – удивилась мама. Она любила сидеть рядом с отцом и, чтоб не терять времени, шила. – Они же союзники наши». – «Шестьдесят восьмой год простить не могут». – «А может, и не надо нам было туда лезть?» – спросила мама, не отрываясь от шитья. «Если бы не мы, Маша, туда бы западные немцы свои войска ввели. Мы их на самую малость опередили».
Павлик не стал этого Алене говорить, потому что секрет, как и всё, что он от отца слышал. Он помолчал, а потом поднял на Алену глаза с укором:
– Там наших солдат сотни тысяч в войну полегло.
– И поэтому мы имеем право их сегодня насильно удерживать? Знаешь, мне рассказывали девчонки из чешской группы, что у чехов есть слово «позор». – Алена присела (и тут Павлик не знал, как правильнее сказать, «на ведро» или «в ведро» – она никогда его не переворачивала, когда садилась, – это чтобы не застудиться, пояснила однажды, – и он покраснел и отвел глаза, хотя сердце у него перехватило от жалости и нежности к хрупкому женскому устройству) и вытянула ноги. – С ударением на первом слоге. Оно значит «внимание, осторожно». Например, «позор, гололед», «позор, туман». А когда на Прагу шли советские танки, то солдаты подумали, что это им позор, и все столбы с дорожными знаками посшибали.
– Солдаты не виноваты, что им не объяснили, – заступился за своих Павлик. – И мы всё правильно сделали. А они просто глупые и неблагодарные. Мы самая великая страна в мире, и они обязаны это признавать.
– Да ты просто империалист какой-то, – засмеялась Алена, – но по крайней мере для нашего факультета это оригинально.
– Империалисты в Америке живут, – обиделся Непомилуев. – А еще во Франции и в Голландии. А мы никого завоевывать не собираемся. Мы человечеству дорогу тропим. Я когда вижу наш флаг, когда слышу наш гимн, у меня мурашки по коже бегут.
– Хорошо, Паша, пусть бегут твои мурашки, – не стала спорить Алена, – только ты, пожалуйста, никому этого не говори.
– Почему?
– Потому что здесь это не принято, – произнесла она таким тоном, что он даже не стал спрашивать дальше. Только удивился: почему сначала она говорила ему, что не любит в людях скрытности, а теперь сама же к ней призывает?
Но ему всё равно хотелось про себя побольше рассказать, довериться, и, если б не обязательство перед Пятисотым молчать, он бы так и сделал. Только про разговор в кабинете деканши рассказал.
Алена хохотала, слушая про нянечку и про даму с блестками, а потом вдруг задумалась.
– Странная история. Очень странная. Семибратский меня не удивляет. Он, конечно, никакой не либерал, а баламут. Три года назад попросил, чтобы ему разрешили провести эксперимент. Сел вместе с абитуриентами вступительное сочинение писать. Схлопотал неуд. Разозлился и теперь везде, где можно, поперек приемки идет. Но вот Мягонькая… Написать задним числом четыре апелляции и все их удовлетворить, поднять каждую оценку сразу на два балла – это слишком серьезное дело. И абсолютно невозможное. Это же никому потом не объяснишь, зачем ты так сделал. Но потому ничего и не предъявишь.
– Чего не предъявишь? – не понял Павлик.
– Да мало ли что, – ответила Алена уклончиво. – Вступительные экзамены – штука мутная. Бывает, что сочинение просто исчезает.
– Куда исчезает?
– А в никуда. Если сочинения нету, за него обязаны поставить пятерку. Иногда этим пользуются, когда надо кого-нибудь особо выдающего провести. – Она снова испытующе посмотрела на Павлика и покачала головой. – Да нет, был бы ты блатной, тебя бы как-то иначе поступили.
– Я не блатной! – вскинулся он оскорбленно.
– Ты суперблатной, – засмеялась Алена. – Так, как ты, сюда еще никто не попадал, и это совершенно в Музином стиле. Она театралка и любит из всего спектакли устраивать. И каждый раз новые. Ей по-другому жить на свете скучно. Муза – жутко влиятельная тетка, – произнесла Алена доверительно. – Она в деканах пятнадцать лет сидит, и никто ее скинуть не может, сколько ни пытались. Она хитрая такая, ее ведь даже по партийной линии пропесочить нельзя. А если б и можно было, как скинешь, когда Мягонькая – светило?
– Она? – вспомнил старушку с тряпкой в руках и не поверил Павлик.
– По мягоньковским учебникам несколько поколений выучились. А еще она справедливая очень и честная. Подлостей никому не делала, зато помогала многим. Той же Рае вот помогла.