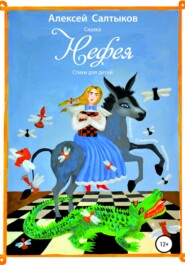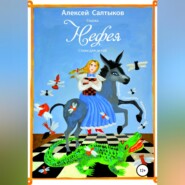По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Огонь каждому свой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Огонь каждому свой
Алексей Васильевич Салтыков
Бывают люди, которым не подходит ни один из миров, предложенных им при рождении. Их удел – всегда, всю жизнь строить свой, без оглядки на догмы и даже на общепринятые правила, тем не менее, которые тоже имеют свойство устаревания. Не все из них бывают поняты при жизни, и тот тупик, та стена непонимания и отчаяния, доводят многих до депрессии и мыслей о самоубийстве. Но даже не конечная цель построенного нового мира влечёт их столько, сколько сам процесс творения, ощущение себя иным измерением, чем те, кто способен жить лишь чужими идеями, мыслями, мирами. К таким людям относят себя и писатели. Таким был и герой этой книги.
Алексей Салтыков
Огонь каждому свой
Предисловие. Биографический роман
Бывают люди, которым не подходит ни один из миров, предложенных им при рождении. Их удел – всегда, всю жизнь строить свой, без оглядки на догмы и даже на общепринятые правила, тем не менее, которые тоже имеют свойство устаревания. Не все из них бывают поняты при жизни, и тот тупик, та стена непонимания и отчаяния, доводят многих до депрессии и мыслей о самоубийстве. Но даже не конечная цель построенного нового мира влечёт их столько, сколько сам процесс творения, ощущение себя иным измерением, чем те, кто способен жить лишь чужими идеями, мыслями, мирами. К таким людям относят себя и писатели. Таким был и герой этой книги.
Даже в биографическом романе, описывая деяния отличного от себя героя, они всё равно пишут про себя, проживая с его судьбой параллельную жизнь. Из них получаются отличные диссиденты, взрыватели устоев, революционеры и бунтари, но никому из них по тютчевскому выражению «не дано предугадать», чем отзовётся в поколениях их слово. А красиво брошенное вовремя – оно имеет решающее значение для масс людей, читателей. Не идея, а именно слово! Вся беда моего героя в том, что он нёс не красивые слова, и голые идеи – в их чистом неотёсанном виде. Он говорил: вот вам краски вместо картин, вот вам ноты вместо симфонии, вот вам глыба мрамора вместо статуи Афродиты, вот вам буквы вместо нового учения.
Идея, логос – это удел божественного, то, что недоступно простому смертному. Вот почему и первые переводчики Библии перепутали слово логос и голос, переведя его как «слово», а между тем это два несовместимых значения. Логос относится к нематериальному миру, а голос, слово – к миру физическому, материальному. Идея – понятие потустороннее, метафизическое. Оно доступно немногим. Массы же идеей не обладают, но они подвержены слову, по велению которого они способны творить. Массы безыдейны. И только отдельным личностям доступны идейные откровения. К таким людям и относится мой герой. Ему легче создать свой мир, чем принять этот, и даже угроза сожжения на костре не может его переубедить. И даже наоборот – стремление к смерти – есть акт самоупокоения от несостоявшегося воплощения дела всей жизни.
Идейных понять сложно. Они творцы собственного мира. Их мир можно только принять или быть вне его. В этом их радость и трагизм. Хотя, трагизм – с точки зрения обывателя. Они другие – вот и все. Их волосы седеют раньше, а души загоняют сердца в бешеной скачке.
Всегда и во все времена их звали еретиками, отступниками, раскольниками, геростратами, фаустами – официально считающие себя властителями судеб народных. Но теперь, спустя века, мы то с вами видим, кто на самом деле стоял на верном пути, на который всё равно сворачивает разумная часть человечества, и как позорно выглядят тени тех, кто разжигал под ними костры – их имена забыты. Но не забыты имена геростратов, которым были приписаны все грехи человеческие закосневшими ортодоксами.
Но, если они колебали основания храмов, если способны были поджечь – значит, то было необходимо для осуществления задач человечества в том времени. Герострат поджёг храм Артемиды не ради славы – самая глупая выдумка его инквизиторов, а потому, что в храме был устроен торговый балаган и поклонялись Золотому Тельцу. Неужели вы думаете, что ради славы Христос разрушил храм иерусалимский, говоря: «Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный (Мк 14:58)»? Не тем ли поступок Герострата задел лицемеров, что в день поджога храма родился истинный будущий демон древнего мира – Александр Македонский, разоривший огромное количество государств, поработивший десятки народов, и уничтоживший сотни тысяч человек своей бессмысленной войной? И вы его тоже называете «Великим»? Лицемеры.
В основании любой истории помимо фактов лежит лицемерие класса победителей, которые передают будущему свою нравственную оценку. Но взгляните, храм Артемиды всё равно умер, и мы восхищаемся его реконструкцией не потому, что большие поклонники Артемиды, а только лишь – как любители древней архитектуры, поклонники внешнего, но не содержания.
«Мир жив только еретиками: еретик Христос, еретик Коперник, еретик Толстой. Наш символ веры – ересь: завтра – непременно ересь для сегодня, обращенного в соляной столп, для вчера, рассыпавшегося в пыль», – писал Замятин в «Завтра» (1919—1920). «Боги наших отцов – наши дьяволы», гласит азиатская пословица (написано у Е. П. Блаватской), но, если взглянуть на историю ещё шире – то и боги будущих детей – тоже. В этом суть мироощущения человека любой эпохи.
Еретик – есть собирательный образ героя конца средневековья. Несмотря на то, что роман носит название биографического, достоверно в нем отражены лишь ключевые моменты и места жизни его героя. Но не менее важное содержание являет и сопутствующая канва повествования. Несмотря на выдумку автора, она в большей степени характеризует быт и нрав той эпохи, в которой герою приходилось жить и бороться за свои взгляды.
Конец средневековья – удивительная эпоха, и любитель удивляться, пытливый читатель откроет для себя интересные мотивы. Эпоха эта контрастна. Здесь преломились друг в друге религиозный фанатизм и реформация, суеверие и возвышенная вера, великолепное искусство и жестокие пытки и казни. Все перемалывалось друг в друге, доходя до отрицания, выводя на поверхность то, что составляет жизнеспособное мироощущение.
Показать это мироощущение, передать все его контрасты – и была моя цель при написании данного произведения. В ней я попытался отразить основные литературные, поэтические, художественные, музыкальные мотивы, как вышедшие из народа в виде застольного, уличного фольклора, так и составляющие живую духовную классику авторов конца средневековья. Книга, которую вы держите в руках неотделима от понимания этой музыки, поэтому я делал сноски прямо в канве текста на то произведение, которое необходимо прослушать любым доступным образом.
Этой книгой я не намеревался задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Каждым из её героев движет его личный внутренний огонь, который совпадает или нет с общепризнанным, или сам формирует общее признание. Мою работу нужно воспринимать как сатиру на догматическое мировоззрение, по примеру работ таких мастеров конца средневековья и Ренессанса, как Франсуа Рабле, Пьер-Жан де Беранже, Джон Болл, Боккаччо, Гёте, Мольер.
Искренне ваш Алексей Салтыков.
Часть1. Истоки огня
Глава 1. Манускрипт
Прибытие монаха Чезаре в порт Ливорно. Тоскана 1460 год
Пахло морем, свежей рыбой и пряностями. Морские чайки сновали то там, то здесь, крича, и норовя выхватить у носильщиков из корзины какую-нибудь рыбину. Некоторым это даже удавалось, носильщики чертыхались, но некоторые принимали это как игру, и поддавали азарту пернатой стае, подбрасывая в воздух какого-нибудь малька.
– Приплыли, брат Чезаре! – Прокричал монаху один из моряков, швартующий шхуну. Блестела медная рында, а на флагштоке развевался жёлтый флаг с красненькими и синенькими шарами. Во рту пересохло. Глаза слепило Солнце. Но наконец-то, – думал монах, – я сменю эту качающуюся палубу на твёрдую землю.
В пути часто его мутило. Ночью он выходил на палубу, и глядя в отражение Млечного пути, кого-то истошно звал. В какой-то момент Чезаре даже показалось, что оттуда, из глубины ему кто-то ответил. Он перекрестился, и со словами «Сгинь, нечистая» удалялся к себе в каюту.
Земля – нечто другое. Основательное, стоящее в центре мира, вращая вокруг себя и Солнце, и облака, и звёзды. Это уж он знал наверняка. Но море! Море его пугало.
Подали трап. Он был скрипучим, и качался вместе со шхуной. Чезаре еле выкарабкался и очутился на набережной портового города Ливорно. Сновали грузчики, матросы, какая-то шпана, важные приказчики в высоких шляпах, проковылял отставной солдат на костылях и одной ноге. Там, на рынке уже шла бойкая торговля рыбой и всякими морскими и заморскими всякостями. Кто-то за спиной у брата Чезаре предлагал кому-то рабыню-девочку: купите рабыню, всего пятьдесят флоринов! Звенели деньги, кричали зазывалы и торговцы, натягивались пружины весов и поясные кисеты. Здесь, пожалуй, место и для воров! Но тебе то, брат Чезаре, чего бояться? За душой ни гроша, а этот свиток, что ты так бережно прижимаешь к груди вряд ли кого-то заинтересует.
Две пышногрудые бабы вываливали рыбу на чистый стол, и она вздыбливалась, и подпрыгивая блестела своей чешуёй. Длинные миноги норовили ускользнуть со стола, но женщина тюкнула их хорошенько по головам каким-то половником. Но что там – рыба! Монаха на мгновенье привлекли груди работающих женщин – они колыхались вслед движениям рук, а из-под маек проглядывали упругие соски. О, если бы обработать их на кожу, наверно получились бы отменные феррарские волынки.
– Прости мя, Господи, – прошептал Чезаре, и вспомнил, наконец, о том, что миссия его состоит не в наблюдении за явлениями природы, а в этом свёртке, который он не выпускал из рук, боясь намочить брызгами волн, и который сулил ему изрядный гонорар. А уж с деньжатами можно и попраздновать с какой-нибудь шлюшкой, да не узнает о том моя братия.
Ливорно.
Это было время, когда деловитость бросала вызов родовитости, когда возвышались незнатные авантюристы, на гербах которых значатся бобы или прочая поднявшая их утварь, и разорялись родовитые аристократы. На смену сакральности творца шло прагматичное божество мамоны.
Проходя по юрким улочкам портовой Ливорно, Чезаре поддался-таки искушению, и заглянул в попавшуюся на пути таверну. Заодно, можно узнать и последние новости, – подумал он, и толкнул тяжёлую дверь. Та со скрипом подалась, и увлекая посетителя за ручку, впустила его в этот вечный храм распутства и веселья. Он уселся за свободный столик в самом углу на дубовую лавку, и у подошедшего вестового заказал себе кружку светлого эля.
– A chi non beve birra, Dio neghi anche l’acqua, – прошептал он вслух, как бы оправдываясь перед незримым оппонентом (Того, кто не пьёт пива, Бог может лишить воды)
Он осмотрелся. За одним столиком сидел усатый моряк, похожий на пирата, а на коленях у него ёрзала молоденькая шлюшка, уже изрядно подвыпившая. Вестовой принёс эль, и Чезаре мечтательно поднёс к губам край медной кружки. С первыми глотками из-за соседнего столика донёсся до него разговор.
– А она мне такая и говорит: клянусь святым распятием, такой меня ещё никогда не пронзал, аж до самой матки достал!
И отхлебнув из кружки, автор истории громко демонстративно закашлялся в смехе…
– Не пойму я, что творится в этом мире. Всё переменилось, куда делось благочестие этих красоток?
И говорящий это тип оторвал от жаренной курицы лапу и демонстративно погрозил ею кому-то в воздухе. На столе у них стояли кружки, бутыль вина, две тарелки, в которых видна была кура, рыба и какая-то пахучая зелень вроде фенхеля.
– Благочестие делось туда, куда и прежние синьоры, а на их место пришли безродные выскочки.
– Да, для них главное – деньги, а духовность их напускная. Вот, взять хотя бы нашего Козимо Медичи. Говорят, что это он сам дочь свою уморил за то, что та лишилась невинности от какого-то пажа. Всё, товар подпорчен…
– Да… – и приятель его снова закашлялся в смехе.
– Академию открыл, книжки печатает! Платона, Аристотеля преподают. Помяни меня, брат, прознает про всё Папа Римский… или, чего хуже сам Король Испанский… А пинта пива подорожала в два раза!
– Время сейчас не стабильное. Выгонят их. Не в первый раз уже.
– Это да. А нам что? Лишь бы жилось, как и прежде весело, и хозяин платил исправно. А службу свою я знаю.
Джованни всеми силами создавал вид, что ему и дела нет до их разговора. Речь шла о его протеже. Какое мне, Чезаре, собственно до того дело, что о нём говорят. Лишь бы он платил исправно за эти вот манускрипты.
Слегка захмелев, Чезаре вышел из таверны, и пустился в поиски извозчика. Путь до Флоренции был ещё неблизким.
Семейство Медичи, которое тогда во Флоренции было на пике власти происходило из простых крестьян Тоскани. Став удачными коммерсантами, предки Козимо Медичи попали в число Нобилей самой Флоренции! Несомненно, – это была искра божия. Это она блеснула некогда в незнатном тосканском роду, и повела его на вершины богатства и власти. Простым выскочкам и аферистам никогда не удавалось удержаться на плаву более одного-двух поколений. И это понимал славный отпрыск олигархической семьи Козимо Медичи. С трудом пришедшие во власть – трудом в ней и обретаются. Правитель Флоренции Козимо не имел официальных титулов, и считал себя первым из граждан. Тогда как иные благодарные граждане именовали его не иначе как отцом флорентийцев.
В этот день ему доложили о прибытии какого-то монаха, который просил, нет – требовал аудиенции. Козимо знал своих посыльных, рыщущих по всему свету в поисках древних рукописей и артефактов для его библиотеки. Древние знания – это была его страсть. Что он хотел там найти? Какие создать новые скрепы? Того мы уже не ведаем. Но перед ним предстал монах в своей запылённой, чёрной рясе до пят. Просторный зал, в котором он принимал своего агента был полон картина, скульптур и книг. Над креслом Медичи висело большое серебряное распятие. Монах выложил на стол какие-то свитки, с виду очень древние.
– Что ты нам принёс, брат Чезаре?
– Гермес Трисмегист, Мессир. Все четырнадцать скрижалей
– Но их же пятнадцать, – вмешался в разговор, отошедший от стены, молодой философ. Звали его Марсилио Фичино. Глаза его жадно заблуждали по строчкам манускрипта. «Да, да, – ухмыльнулся про себя Сезаре, – если бы кто знал, чего мне стоило доставить их сюда, эти проклятые бумажки. Конечно, их было пятнадцать, или около того. Но в одну из ночей, когда меня жутко тошнило, одна из них выпала за борт. О, как она полетела! Наверное, к своим хозяевам в преисподнюю, еретики проклятые. Но вслух сказал:
Алексей Васильевич Салтыков
Бывают люди, которым не подходит ни один из миров, предложенных им при рождении. Их удел – всегда, всю жизнь строить свой, без оглядки на догмы и даже на общепринятые правила, тем не менее, которые тоже имеют свойство устаревания. Не все из них бывают поняты при жизни, и тот тупик, та стена непонимания и отчаяния, доводят многих до депрессии и мыслей о самоубийстве. Но даже не конечная цель построенного нового мира влечёт их столько, сколько сам процесс творения, ощущение себя иным измерением, чем те, кто способен жить лишь чужими идеями, мыслями, мирами. К таким людям относят себя и писатели. Таким был и герой этой книги.
Алексей Салтыков
Огонь каждому свой
Предисловие. Биографический роман
Бывают люди, которым не подходит ни один из миров, предложенных им при рождении. Их удел – всегда, всю жизнь строить свой, без оглядки на догмы и даже на общепринятые правила, тем не менее, которые тоже имеют свойство устаревания. Не все из них бывают поняты при жизни, и тот тупик, та стена непонимания и отчаяния, доводят многих до депрессии и мыслей о самоубийстве. Но даже не конечная цель построенного нового мира влечёт их столько, сколько сам процесс творения, ощущение себя иным измерением, чем те, кто способен жить лишь чужими идеями, мыслями, мирами. К таким людям относят себя и писатели. Таким был и герой этой книги.
Даже в биографическом романе, описывая деяния отличного от себя героя, они всё равно пишут про себя, проживая с его судьбой параллельную жизнь. Из них получаются отличные диссиденты, взрыватели устоев, революционеры и бунтари, но никому из них по тютчевскому выражению «не дано предугадать», чем отзовётся в поколениях их слово. А красиво брошенное вовремя – оно имеет решающее значение для масс людей, читателей. Не идея, а именно слово! Вся беда моего героя в том, что он нёс не красивые слова, и голые идеи – в их чистом неотёсанном виде. Он говорил: вот вам краски вместо картин, вот вам ноты вместо симфонии, вот вам глыба мрамора вместо статуи Афродиты, вот вам буквы вместо нового учения.
Идея, логос – это удел божественного, то, что недоступно простому смертному. Вот почему и первые переводчики Библии перепутали слово логос и голос, переведя его как «слово», а между тем это два несовместимых значения. Логос относится к нематериальному миру, а голос, слово – к миру физическому, материальному. Идея – понятие потустороннее, метафизическое. Оно доступно немногим. Массы же идеей не обладают, но они подвержены слову, по велению которого они способны творить. Массы безыдейны. И только отдельным личностям доступны идейные откровения. К таким людям и относится мой герой. Ему легче создать свой мир, чем принять этот, и даже угроза сожжения на костре не может его переубедить. И даже наоборот – стремление к смерти – есть акт самоупокоения от несостоявшегося воплощения дела всей жизни.
Идейных понять сложно. Они творцы собственного мира. Их мир можно только принять или быть вне его. В этом их радость и трагизм. Хотя, трагизм – с точки зрения обывателя. Они другие – вот и все. Их волосы седеют раньше, а души загоняют сердца в бешеной скачке.
Всегда и во все времена их звали еретиками, отступниками, раскольниками, геростратами, фаустами – официально считающие себя властителями судеб народных. Но теперь, спустя века, мы то с вами видим, кто на самом деле стоял на верном пути, на который всё равно сворачивает разумная часть человечества, и как позорно выглядят тени тех, кто разжигал под ними костры – их имена забыты. Но не забыты имена геростратов, которым были приписаны все грехи человеческие закосневшими ортодоксами.
Но, если они колебали основания храмов, если способны были поджечь – значит, то было необходимо для осуществления задач человечества в том времени. Герострат поджёг храм Артемиды не ради славы – самая глупая выдумка его инквизиторов, а потому, что в храме был устроен торговый балаган и поклонялись Золотому Тельцу. Неужели вы думаете, что ради славы Христос разрушил храм иерусалимский, говоря: «Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный (Мк 14:58)»? Не тем ли поступок Герострата задел лицемеров, что в день поджога храма родился истинный будущий демон древнего мира – Александр Македонский, разоривший огромное количество государств, поработивший десятки народов, и уничтоживший сотни тысяч человек своей бессмысленной войной? И вы его тоже называете «Великим»? Лицемеры.
В основании любой истории помимо фактов лежит лицемерие класса победителей, которые передают будущему свою нравственную оценку. Но взгляните, храм Артемиды всё равно умер, и мы восхищаемся его реконструкцией не потому, что большие поклонники Артемиды, а только лишь – как любители древней архитектуры, поклонники внешнего, но не содержания.
«Мир жив только еретиками: еретик Христос, еретик Коперник, еретик Толстой. Наш символ веры – ересь: завтра – непременно ересь для сегодня, обращенного в соляной столп, для вчера, рассыпавшегося в пыль», – писал Замятин в «Завтра» (1919—1920). «Боги наших отцов – наши дьяволы», гласит азиатская пословица (написано у Е. П. Блаватской), но, если взглянуть на историю ещё шире – то и боги будущих детей – тоже. В этом суть мироощущения человека любой эпохи.
Еретик – есть собирательный образ героя конца средневековья. Несмотря на то, что роман носит название биографического, достоверно в нем отражены лишь ключевые моменты и места жизни его героя. Но не менее важное содержание являет и сопутствующая канва повествования. Несмотря на выдумку автора, она в большей степени характеризует быт и нрав той эпохи, в которой герою приходилось жить и бороться за свои взгляды.
Конец средневековья – удивительная эпоха, и любитель удивляться, пытливый читатель откроет для себя интересные мотивы. Эпоха эта контрастна. Здесь преломились друг в друге религиозный фанатизм и реформация, суеверие и возвышенная вера, великолепное искусство и жестокие пытки и казни. Все перемалывалось друг в друге, доходя до отрицания, выводя на поверхность то, что составляет жизнеспособное мироощущение.
Показать это мироощущение, передать все его контрасты – и была моя цель при написании данного произведения. В ней я попытался отразить основные литературные, поэтические, художественные, музыкальные мотивы, как вышедшие из народа в виде застольного, уличного фольклора, так и составляющие живую духовную классику авторов конца средневековья. Книга, которую вы держите в руках неотделима от понимания этой музыки, поэтому я делал сноски прямо в канве текста на то произведение, которое необходимо прослушать любым доступным образом.
Этой книгой я не намеревался задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Каждым из её героев движет его личный внутренний огонь, который совпадает или нет с общепризнанным, или сам формирует общее признание. Мою работу нужно воспринимать как сатиру на догматическое мировоззрение, по примеру работ таких мастеров конца средневековья и Ренессанса, как Франсуа Рабле, Пьер-Жан де Беранже, Джон Болл, Боккаччо, Гёте, Мольер.
Искренне ваш Алексей Салтыков.
Часть1. Истоки огня
Глава 1. Манускрипт
Прибытие монаха Чезаре в порт Ливорно. Тоскана 1460 год
Пахло морем, свежей рыбой и пряностями. Морские чайки сновали то там, то здесь, крича, и норовя выхватить у носильщиков из корзины какую-нибудь рыбину. Некоторым это даже удавалось, носильщики чертыхались, но некоторые принимали это как игру, и поддавали азарту пернатой стае, подбрасывая в воздух какого-нибудь малька.
– Приплыли, брат Чезаре! – Прокричал монаху один из моряков, швартующий шхуну. Блестела медная рында, а на флагштоке развевался жёлтый флаг с красненькими и синенькими шарами. Во рту пересохло. Глаза слепило Солнце. Но наконец-то, – думал монах, – я сменю эту качающуюся палубу на твёрдую землю.
В пути часто его мутило. Ночью он выходил на палубу, и глядя в отражение Млечного пути, кого-то истошно звал. В какой-то момент Чезаре даже показалось, что оттуда, из глубины ему кто-то ответил. Он перекрестился, и со словами «Сгинь, нечистая» удалялся к себе в каюту.
Земля – нечто другое. Основательное, стоящее в центре мира, вращая вокруг себя и Солнце, и облака, и звёзды. Это уж он знал наверняка. Но море! Море его пугало.
Подали трап. Он был скрипучим, и качался вместе со шхуной. Чезаре еле выкарабкался и очутился на набережной портового города Ливорно. Сновали грузчики, матросы, какая-то шпана, важные приказчики в высоких шляпах, проковылял отставной солдат на костылях и одной ноге. Там, на рынке уже шла бойкая торговля рыбой и всякими морскими и заморскими всякостями. Кто-то за спиной у брата Чезаре предлагал кому-то рабыню-девочку: купите рабыню, всего пятьдесят флоринов! Звенели деньги, кричали зазывалы и торговцы, натягивались пружины весов и поясные кисеты. Здесь, пожалуй, место и для воров! Но тебе то, брат Чезаре, чего бояться? За душой ни гроша, а этот свиток, что ты так бережно прижимаешь к груди вряд ли кого-то заинтересует.
Две пышногрудые бабы вываливали рыбу на чистый стол, и она вздыбливалась, и подпрыгивая блестела своей чешуёй. Длинные миноги норовили ускользнуть со стола, но женщина тюкнула их хорошенько по головам каким-то половником. Но что там – рыба! Монаха на мгновенье привлекли груди работающих женщин – они колыхались вслед движениям рук, а из-под маек проглядывали упругие соски. О, если бы обработать их на кожу, наверно получились бы отменные феррарские волынки.
– Прости мя, Господи, – прошептал Чезаре, и вспомнил, наконец, о том, что миссия его состоит не в наблюдении за явлениями природы, а в этом свёртке, который он не выпускал из рук, боясь намочить брызгами волн, и который сулил ему изрядный гонорар. А уж с деньжатами можно и попраздновать с какой-нибудь шлюшкой, да не узнает о том моя братия.
Ливорно.
Это было время, когда деловитость бросала вызов родовитости, когда возвышались незнатные авантюристы, на гербах которых значатся бобы или прочая поднявшая их утварь, и разорялись родовитые аристократы. На смену сакральности творца шло прагматичное божество мамоны.
Проходя по юрким улочкам портовой Ливорно, Чезаре поддался-таки искушению, и заглянул в попавшуюся на пути таверну. Заодно, можно узнать и последние новости, – подумал он, и толкнул тяжёлую дверь. Та со скрипом подалась, и увлекая посетителя за ручку, впустила его в этот вечный храм распутства и веселья. Он уселся за свободный столик в самом углу на дубовую лавку, и у подошедшего вестового заказал себе кружку светлого эля.
– A chi non beve birra, Dio neghi anche l’acqua, – прошептал он вслух, как бы оправдываясь перед незримым оппонентом (Того, кто не пьёт пива, Бог может лишить воды)
Он осмотрелся. За одним столиком сидел усатый моряк, похожий на пирата, а на коленях у него ёрзала молоденькая шлюшка, уже изрядно подвыпившая. Вестовой принёс эль, и Чезаре мечтательно поднёс к губам край медной кружки. С первыми глотками из-за соседнего столика донёсся до него разговор.
– А она мне такая и говорит: клянусь святым распятием, такой меня ещё никогда не пронзал, аж до самой матки достал!
И отхлебнув из кружки, автор истории громко демонстративно закашлялся в смехе…
– Не пойму я, что творится в этом мире. Всё переменилось, куда делось благочестие этих красоток?
И говорящий это тип оторвал от жаренной курицы лапу и демонстративно погрозил ею кому-то в воздухе. На столе у них стояли кружки, бутыль вина, две тарелки, в которых видна была кура, рыба и какая-то пахучая зелень вроде фенхеля.
– Благочестие делось туда, куда и прежние синьоры, а на их место пришли безродные выскочки.
– Да, для них главное – деньги, а духовность их напускная. Вот, взять хотя бы нашего Козимо Медичи. Говорят, что это он сам дочь свою уморил за то, что та лишилась невинности от какого-то пажа. Всё, товар подпорчен…
– Да… – и приятель его снова закашлялся в смехе.
– Академию открыл, книжки печатает! Платона, Аристотеля преподают. Помяни меня, брат, прознает про всё Папа Римский… или, чего хуже сам Король Испанский… А пинта пива подорожала в два раза!
– Время сейчас не стабильное. Выгонят их. Не в первый раз уже.
– Это да. А нам что? Лишь бы жилось, как и прежде весело, и хозяин платил исправно. А службу свою я знаю.
Джованни всеми силами создавал вид, что ему и дела нет до их разговора. Речь шла о его протеже. Какое мне, Чезаре, собственно до того дело, что о нём говорят. Лишь бы он платил исправно за эти вот манускрипты.
Слегка захмелев, Чезаре вышел из таверны, и пустился в поиски извозчика. Путь до Флоренции был ещё неблизким.
Семейство Медичи, которое тогда во Флоренции было на пике власти происходило из простых крестьян Тоскани. Став удачными коммерсантами, предки Козимо Медичи попали в число Нобилей самой Флоренции! Несомненно, – это была искра божия. Это она блеснула некогда в незнатном тосканском роду, и повела его на вершины богатства и власти. Простым выскочкам и аферистам никогда не удавалось удержаться на плаву более одного-двух поколений. И это понимал славный отпрыск олигархической семьи Козимо Медичи. С трудом пришедшие во власть – трудом в ней и обретаются. Правитель Флоренции Козимо не имел официальных титулов, и считал себя первым из граждан. Тогда как иные благодарные граждане именовали его не иначе как отцом флорентийцев.
В этот день ему доложили о прибытии какого-то монаха, который просил, нет – требовал аудиенции. Козимо знал своих посыльных, рыщущих по всему свету в поисках древних рукописей и артефактов для его библиотеки. Древние знания – это была его страсть. Что он хотел там найти? Какие создать новые скрепы? Того мы уже не ведаем. Но перед ним предстал монах в своей запылённой, чёрной рясе до пят. Просторный зал, в котором он принимал своего агента был полон картина, скульптур и книг. Над креслом Медичи висело большое серебряное распятие. Монах выложил на стол какие-то свитки, с виду очень древние.
– Что ты нам принёс, брат Чезаре?
– Гермес Трисмегист, Мессир. Все четырнадцать скрижалей
– Но их же пятнадцать, – вмешался в разговор, отошедший от стены, молодой философ. Звали его Марсилио Фичино. Глаза его жадно заблуждали по строчкам манускрипта. «Да, да, – ухмыльнулся про себя Сезаре, – если бы кто знал, чего мне стоило доставить их сюда, эти проклятые бумажки. Конечно, их было пятнадцать, или около того. Но в одну из ночей, когда меня жутко тошнило, одна из них выпала за борт. О, как она полетела! Наверное, к своим хозяевам в преисподнюю, еретики проклятые. Но вслух сказал: