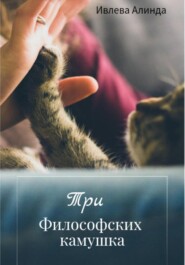По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Догоняя правду
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вдруг вспомнилось, ведь про нас, ребята, вы для меня все родные. Родные – это ведь правда не про кровь. Я читала в одном журнале, что род, предки наши, это те, кто был даже отчимом или приёмным ребёнком до нас. Это все наш род, и они за нами стеной, тылом. А наши родители живы, они наши крылья. Сколько ночей мать не спала, когда ты Егор заболел, одна ремиссия, вторая, она и до сих пор стоит на коленках молится? А ты, Софа? Когда твоя дочь пропала, ты рыдала, таблетки вином запивала, а мать в город приехала, людей собрала и искала шесть дней без сна. Пока не нашла. А ты, Русик, когда в аварию попал, лежал весь переломанный, кто весь мир перевернул и связи поднял, мать тогда квартиру продала. Знаешь? Тебя в Израиль, чтоб отправить, чтоб ты снова ходить мог. А ты думал, гадал, кому квартира ушла. Родители хоть раз попрекнули. Ты там так и остался, а спасибо сказал? Стыдно мне за вас, и за себя стыдно. Пишите, Лиза все, как есть. Мы все уже седовласые люди, а судим, рядим, делим. Родные не те, кто записан в паспорте и не те, у кого кровь одна…, – Лариса заплакала, и выбежала из дома. В тихую ночь. Детей Лидочка уложила спать в гостевом доме. «Надо же, и не заметили, как стемнело». Лариса посмотрела на звёздное небо, и зарыдала горько, протяжно, заскулила одинокой раненой волчицей:
– Одна я, всю жизнь для себя, я б сейчас… все бы изменить, хоть чужого, хоть желтокожего, хоть черенького ребёночка. Так и не узнала я материнства, так и не узнала. Мамочкииии…за что? Мамочка моя, – женщина упала на колени в траву и, раскачиваясь маятником, вознесла руки. В этот момент с инжирного неба упала звезда. Будто скатилась на макушку Ларисе. Засеребрились, засветились волосы. И тепло так стало на её душе.
– Спасибо за знак, Господи! Все так, как и должно быть!
Отозвалась на ее мольбы иволга из пролеска, ночная плакальщица. Лариса затихла, прислушалась.
– Не плачу я. Не буду! Все будет хорошо. Спасибо, тебе, Господи!
Лариса провела рукой по увядающей траве. «Ты как я, жухлая, колючая, ещё чуть, и застелет тебя инеем. Бабье лето, дай взаймы. У тебя, травушка, будет весна. А у меня?».
Женщина с трудом поднялась, хрустя коленками, глянула на кудрявую рябинку. В молочном тумане, стоит невестою, что в девках засиделась, зардевшаяся, налитая, разодетая в багряные обновы. Затейница осень и её засентябрила. Под розовой луной рябинушка шепчется с желтолистым клёном. Пахнуло дикой мятой. Заморосил дождь, смывая слезы. «Надо в дом идти». Лариса обняла свое сухопарое тело руками. «И обнять то некому».
За столом стало веселее. Уложили гостью в тёщиной комнате, с другой стороны печки. Демир, расхваливая свою наливку на вишневых косточках с черноплодкой, разливал детям по стопкам. Венера закимарила, уткнувшись подбородком в жабо. Волосы её, что та жухлая трава, разметались по лбу. Дверь скрипнула, когда Лара хотела закрыть поплотней, мать встрепенулась. Начеку. Братья и сестры, на удивление, вспоминали истории из детства. Чокались. Смеялись. Будто негатив, как неудачный, фотографом был засвечен. И улетел в помойку.
Лариса обошла стол, коснулась каждого, обняла маму за плечи:
– Мамуль, пойдём уложу, завтра расскажешь. Никто не уедет.
– Чтоб дождались. В шесть утра всех разбужу, – Венера крючковатым пальцем стукнула по столу. – Не слышу?
– Да, мам.
– Иди, иди спать.
– Спокойной ночи.
? Старушка согнулась, вжала голову в бордовый крепдешин и исчезла за шторкой тюлевой.
? – Мать совсем сдала, – с сочувствием в голосе, на удивление остальных, поделилась Софа.
– Нет, отец, ты все же скажи, где Машкина машина, хорошая тачка была, Лёнькина хата, Пашкина? Витька бедолага молодым помер, и не нажил ничего, Пашка просрал и бизнес и жизнь, пропоица, у Толи – медицина одна была вместо жизни, с тем все ясно, так на работе и помер. У Тёмки – домина, куда все мать дела? Не смотрите на меня, как на врага народа. Вы все так же думаете, только вякнуть боитесь. У них детей не было. Прям, проклятие. Все матери отписали нажитое, я у нотариуса узнавал. Меня не проведёшь.
– А тебя никто и не думал обманывать, все там, где надо. Матери видней. Я в ейные дела не лезу, и тебе не советую. Вы тут пейте, ешьте, и на боковую. Я к Венере своей. Мяты нарву.
– Нарвала я, Папочка, нате, идите спать, – Лариса обняла маленького дедулю, по плечо женщине, и повела его к матери. Тот, гремя медалями, сопя и ковыляя, скрылся за тюлем.
– Эх, даже не верится, что отец на голову выше был. Но даже на одноглазого бабы заглядывались, я мелкий был, а помню, как Зойку наша мать метлой по дороге гнала. Соседи ржали в покатуху. А мать орёт, что, если ещё нос свой сунет, помоями для свиней обольет. А я еду на велике и такой счастливый, что эта грозная тётя в синем халате и галошах – моя мать, – Виктор почесал лысину, поскреб отросшую щетину на бороде.
– А правда, Русланчик, ты у нас вообще на цыгана похож, может ты из табора сбежал? А родители тебя подобрали… вечно ты, как перекати–поле жил. Как ты там в своём Израиле? Может ты еврей? – Милочка, впервые за весь день, подала голос.
– А что? Похож, – подхватили со смешком остальные братья и сестры.
– Жид порхатый, – загремел Егор.
– Какой он порхатый? Плешивый он жид, – вставила София. И все засмеялись, дружно чокаясь.
– Вот, мать, всех нас собрала, и даже говорить друг с другом заново научила, а то в прошлую встречу лаяли как псы бродячие. Пусть не родные, но других то и нет у нас родственников. А родню, как грится, не выбирают, – самый младший, поздний ребёнок, тихий Владимир сказал речь. То ли профессия на нем отразилась, то ли не в коня корм. Худой, невзрачный Владимир – дознаватель. Молчит, наблюдает, слушает.
– Володька, ты почему усы сбрил? – загоготал над своей шуткой перебравший Егор.
– Мы так редко видимся, что ты и не знаешь, усов и не было, как грится, юн и безус, – Владимир улыбнулся глазами.
– А ты с детства шуток не понимаешь, я смотрю, копия – мать! У неё все всерьёз, в жизни нет, бляха муха, удовольствий. – Да и чего с мента ждать, хороший мент – мёртвый, – бугай раскатисто заржал, махнул стопку, запрокинув голову, но подвела хлипкая табуретка. Дощатый пол испуганно ухнул, натужился, сердито скрипнул, но выдержал два центнера Егоровых.
– Очень смешная шутка, как грится, смеётся тот, кто смеётся последний, – Владимир протёр лоб салфеткой. Сестры как девчонки хихикали.
Но неожиданно младший брат продолжил:
– Не знаю, кто и что, но я вот единокровный, все доказано и запротоколировано.
– Как? – в один голос спросили все присутствующие, придвинув стулья и табуретки ближе к брату. Тот довольно глянул на присутствующих, чувствуя свое превосходство. И в этот момент его глаза, мутные, бесцветные, будто отцовские подслеповатые, приобрели цвет. Грифель во мху. Не иначе. Так и мать его глаза называла в детстве, все помнили, и приговаривала: "Почаще улыбайся, Володенька, глаза у тебя в такие моменты такие интересные, что грифель во мху, как у отца". Володька всегда знал обо всем больше остальных. И старшим братьям и сёстрам не раз казалось, что у родителей Вовка в любимчиках.
– Так и что, мать правду говорит? – Егор поднялся уже с пола, успокоился, за три глотка осушил банку с рассолом из–под огурцов. – Что мы не родные? А? Или брешет?
– Тебе видней, как грится, с высоты –то роста твоего, но я кровь сдавал отцу, когда он руку чуть не потерял. Бензопилой. Помните, дело было, деревья он валил после урагана. Слепой черт. Я примчался в больницу. Точно знаю теперь, кровь у нас одна. Пришлось сдавать, не было в больнице донорской. Оказалось, у него первая и у меня. Я – то всю жизнь думал, что у меня третья. Ошибка вкралась, я засомневался, генетический материал тогда и взял на анализ. Через своих выяснил. По отцу я – точно родной.
– Охренеть, – Егор стукнул ручищами по арбузному животу. – Вот жук, Володька, молчал сидел. – Девочки, ну – ка, по сусекам, че там надо? Волосы? С материной расчёски найдите. Её россказни слушать, все узнаем.
– А зачем? – вставил Руслан. – Логики не вижу. Мы ж по документам дети. Что поменяется? Мне по фиг. Ближе не станем.
– Вот тут ты прав, брат, – поддакнула Софа. – Выпьем!
У матери, крыша едет, вообще можем признать её недееспособной, и сами все решим с недвижкой. Доказать, раз плюнуть, знакомые есть, – она выставила перед собой манерно руку, усыпанную впившимися в пальцы массивными кольцами. С любовью оглядела золотые украшения и обвела взглядом вчерашних родных.
– Слушайте, какие вы поганые люди, Володь, тебя это не касается, и тебя, Милочка, тебе и на свою жизнь – то насрать, а на наши тем более. А вот вы! Приехали не порадоваться за стариков, а вынюхать про завещание? Че кому перепадет? Это я, дура старая, все страдала, что мать меня мало по голове не гладила, не любила, не обнимала. А вы как свора шакалов примчались наследство дербанить. Тьфу. Противно. А я и рада буду, если мы не родные. Не хочу таких родных. Стыдно, – Лариса подскочила со стула, запахнула платок, и выскочила на улицу.
– Скучно все это, – Мила поднялась со стула, и невидимой тенью скрылась за шторкой. Слышно было, как тужились из последних сил старые ступеньки, с трудом выдерживая даже цыплячий вес Людмилы.
– Давайте поспим, как грится, утро вечера мудренее. А мать ничего просто так не говорит. Неспроста её в снайперы взяли. Каждое слово и каждое дело, как грится, в цель.
– Чегооо? Какой снайпер? Ей свиньями командовать только. Она ж все рассказывала, что ружья, автоматы чистила, смазывала, – Егор опять смеялся, с придыханием.
– А я вот видел, как она дедово ружье вскинула на плечо и в окно нацелила, там теть Зоя шла вдоль сараев. И глаз один сщурила. Застыла, не дышит. После войны лет двадцать пять тогда как прошло. Я в дверях и застыл. Уже тогда в школе милиции отучился, и тех, кто умеет управляться с оружием я видел. Она умеет. Как она передернула затвор.
Затвор для женских рук слабых не то, что … передернуть. Ну, сами знаете, что, как грится. Держать ружье, в принципе, тяжело, – усмехнулся глазами Вовка.
– Вот те на, серый кардинал какой–то наша мать, – Егор почесал бороду и пустил шептуна. Громко так, раскатисто. Оставшиеся замахали руками, захохотали:
– Ты, как всегда, Егор! – в один голос выдали вчерашние братья и сестры.
– В общем, жду команду, реагирую на три зелёных свистка, – Володя аккуратно снял марлечку с трехлитровой банки, в которой вольготно себя чувствовал заплывший слоями чайный гриб. Подозрительно принюхался, отлил в огромную отцовскую кружку изображением Красного Кремля. Жадно выпил. Срыгнул в кулак. – Хорош, а вы все: батя ни на что не годен. А наливочку хлещете, компотиком запиваете, как грится, натур продукт, собственным горбом выращено. Я спать на сеновал, – младший брат снял ветровку со спинки стула и вышел из дома.
– Руслаха, давай ещё по одной и в школу не пойдём, – Егор схватил бутыль со стола, недопитая завертелась в канкане наливка, взбудоражив притихшие на дне косточки вишни.
– Не, с меня хватит, это у тебя горло луженое.
– Да, сколько ещё тех дней осталось? Да, и горло уже не луженое. Девочки, давайте, бахнем. А то, может, и не свидимся.