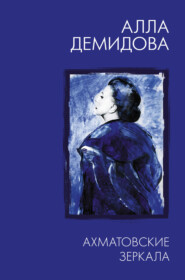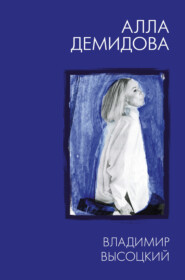По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Всему на этом свете бывает конец…»
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Написал он это задолго до Лопахина, еще в 1963 году, но в Лопахине у него эта тема аукнулась.
Можно делить людей, как у Мережковского, например, на «удачников» и «неудачников». Чеховские герои у него «неудачники».
А я раньше делила людей на «детей» и «взрослых». У Чехова в пьесах – «дети», а у Толстого – «взрослые».
Молодой Чехов делил на «воспитанных» и «невоспитанных». (Вспомним его письмо брату, например.)
Есть люди «серьезные» и «несерьезные». На вопрос Книппер «Что такое жизнь?» – Чехов ответил: «А что такое морковка?»
Лопахин «серьезный», а Гаев – нет?
Часто слышу, что «Чехов жестокий». В чем? Он умный, но сострадательный. У него нет уж совсем пропащих.
Да и прямой морали никогда не найдешь у Чехова. Как-то он сказал: «Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. ‹…› Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть».
Ну да, явной морали в чеховских пьесах нет, но это не значит, что этого нет совсем. Все в подтексте. Главное, почувствовать чеховскую концепцию мира. Когда читаешь пьесы Чехова, то как бы прочищаешься, становишься лучше. Понимаешь, что твои маленькие события и страдания ничто в сравнении с вихрем времени, который сметает все на своем пути. Сама природа лишена нравственности. Только человеку подвластно этот хаос жизни упорядочить. Сад не возникает сам по себе, его культивирует человек. На это потрачены огромные силы. Безнравственно уничтожать это дело рук человеческих. Тем более ради выгоды.
* * *
24 марта 1975, понедельник. Репетируем с Эфросом 3-й акт. Я на сцене с самого начала, сижу на детском стульчике справа на авансцене, курю и не обращаю внимания, что делается за моей спиной. Это поставил Эфрос, у Чехова Раневская выходит позже, только на свою реплику:
Любовь Андреевна. А Леонида все нет. Что он делает в городе так долго, не понимаю! Ведь все уже кончено там, имение продано или торги не состоялись, зачем же так долго держать в неведении!
Варя. Дядечка купил, я в этом уверена.
Трофимов. Да.
Варя. Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это она для Ани. И я уверена, Бог поможет, дядечка купит.
Любовь Андреевна. Ярославская бабушка прислала пятнадцать тысяч, чтобы купить имение на ее имя, – нам она не верит, а этих денег не хватило бы даже проценты заплатить. Сегодня судьба моя решается, судьба…
Трофимов. Мадам Лопахина!
Варя. Вечный студент! Уже два раза увольняли из университета.
Любовь Андреевна. Что же ты сердишься, Варя? Он дразнит тебя Лопахиным, ну что ж? Хочешь – выходи за Лопахина, он хороший, интересный человек. Не хочешь – не выходи; тебя, дуся, никто не неволит…
Варя. Я смотрю на это дело серьезно, мамочка, надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится.
Любовь Андреевна. И выходи. Что же ждать.
Варя. Мамочка, не могу же я сама делать ему предложение. Вот уже два года все мне говорят про него, все говорят, а он или молчит, или шутит. Я понимаю. Он богатеет, занят делом, ему не до меня. Если бы были деньги, хоть немного, хоть бы сто рублей, бросила бы я все, ушла бы подальше. В монастырь бы ушла.
Трофимов. Благолепие!
Варя. Студенту надо быть умным! Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели! Только вот без дела не могу, мамочка. Мне каждую минуту надо что-нибудь делать.
ЭФРОС. «Вы говорите, ясно, а той тайны, о которой я говорил, не могу уловить. Что это за тайна? Попробуем разобраться. Я понимаю все первые сцены. Запущен секундомер. Приезд Раневской. Следующий этап идет не по линии нагнетания чисто внешних нервов, а по линии раскрытия тайны. Мы должны понять конкретность ее беспокойства. Этот поворот интересен. Это как если бы, допустим, актер не пришел на спектакль. Всех волнует – будет спектакль или нет, а жену его волнует другое – что с ним случилось. Так и здесь. Если раньше Раневскую беспокоило, почему их нет так долго, то следующий момент – это ее возмущение против опоздавших. По тому примеру, который я привел, ход мыслей примерно таков – будем считать, что ничего с ним не случилось, с тем, кто не пришел на спектакль, но ведь вокруг телефоны, можно было бы и позвонить. Публика должна настроиться против тех, кто ее мучает. Гаев мог же сообщить. На первый план должно выйти не продажа сада, удалось ли его сохранить или нет, а почему один родственник заставляет другого так долго мучиться. Варя выбрала самый плохой способ ее утешить. Она говорит самые нелепые слова, но для себя она нашла, что они самые лучшие. А Раневская из-за Гаева на Варю выливает свое раздражение. Алла, я предлагаю сделать чуть рациональнее, медленнее, чтобы понять конкретность. Отмахнитесь от Вари. Мол, заткнись, ты говоришь глупости. Человек, желающий помочь ложью, попадает в глупое положение. Сцена должна вся обратиться против Вари. Самый добрый становится самым виноватым – такая вот жизненная драма. Не оставляйте ее в покое до тех пор, пока она не расплачется. Варя от Пети идет к Раневской под защиту, а Раневская сама ее обижает».
Любовь Андреевна. Не дразните ее, Петя, вы видите, она без того в горе.
Трофимов. Уж очень она усердная. Не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане, боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое ей дело? И к тому же я вида не подавал, я так далек от пошлости. Мы выше любви!
Любовь Андреевна. А я вот, должно быть, ниже любви. Отчего нет Леонида? Только бы знать; продано имение или нет? Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что думать, теряюсь… Я могу сейчас крикнуть… могу глупость сделать. Спасите меня, Петя. Говорите же что-нибудь, говорите…
Трофимов. Продано ли сегодня имение или не продано – не все ли равно? С ним давно уже покончено, нет поворота назад, заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза.
ЭФРОС. «Раневская обидела Варю, а сердится за это на Петю. Раневская их не слушает, а переключается на основную тему для себя – мне плохо, говорите мне что-нибудь, утешьте меня. А Петя не хочет ее утешать. Требуйте от него того, что фактически запретили Варе. Не в словах дело, а в сути. Растопчите его, он, видите ли, правду знает. Перестройтесь надолго. Ты сказал такую вещь, я тебя за это два часа буду топтать. Только небрежно говорите с ним».
Любовь Андреевна. Какой правде? Вы видите, где правда и где неправда, а я точно потеряла зрение, ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы, но скажите, голубчик, не потому ли это, что вы молоды, что не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Вы смело смотрите вперед, и не потому ли, что не видите и не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз? Вы смелее, честнее, глубже нас, но вдумайтесь, будьте великодушны хоть на кончике пальца, пощадите меня. Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом… Ведь мой сын утонул здесь. Пожалейте меня, хороший, добрый человек.
ЭФРОС. «Алла, вы не должны идти на сарказм. Раскройте сначала свою горечь.
Вы уже понимаете, к чему такое решение пьесы. Вы видите, что название „Вишневый сад“ – это символ. Когда перед вами простая бытовая пьеса, то первый режиссерский прием – ее нужно усложнить. Так было у меня с „Женитьбой“. А „Вишневый сад“ очень сложная пьеса, и ее надо упростить. В чем упрощение? Сделать вишневый сад буквально темой. И сделать нужно так на сцене: участок земли, грядки, деревья. Очень все красиво. Вокруг сада, то есть вокруг этого участка земли, персонажи и поют: „Что мне до шумного света“. А в конце все деревья выдернут, мебель туда свалят и все подожгут. И опять все вокруг собрались, траурно, но опять поют. От начала до конца должен быть процесс. 1-й акт – не тем заняты, 2-й акт – задумались, 3-й акт – ожидание решения, 4-й акт – конец.
В чем суть 4-го акта? Это происходит после чего-то. Вот, допустим, кого-то не стало, а потом люди возвращаются в его квартиру, и дальше все снимается скрытой камерой. Мы видим, как люди разлагают момент осознания, что все уже в прошлом, сейчас – это то, что уже произошло. 4-й акт – это анализ события после того, что произошло. После события. Как выходят после крематория и как после этого ведут себя люди. Здесь детали играют роль. Понятие „после“, разложенное по складам. Начало акта – спешить некуда, ждать уже нечего. Все нужно разложить на мелочи. Это как человек, уже собрав чемоданы, вспоминает, не забыл ли он что-то, а времени у него много. И он все очень медленно вспоминает – спешить некуда. Замедленный темп. После того, как человек умер и его вынесли уже, ждет машина, но торопиться не принято, неудобно.
Пока был вишневый сад, никто никого и ничего не замечал, а теперь людям все интересно. К спорам возврата нет, сада нет, все умерло. Это пауза между прошлым и будущим. Это пустота. Спешить некуда, жить не для чего. Что такое здесь Трофимов? Это очень, очень изнуренный правдолюбец. Он почти уже понял, что на его веку не будет истины, но за нее надо все-таки драться. Его высокие слова не ироничны, эти высокие слова вынужденные. Он знает, что их нужно говорить, и говорит утомленно и вынужденно. Это как дистрофик убеждает всех, что сердце у него еще здоровое. Абсолютно на одинаковом уровне – калоши, Фирс, шампанское. Все это имеет одно значение – после смерти. Если спектакль наш будет темпераментный и высшая точка – конец 3-го акта, то 4-й надо делать на страшных вещах – разложение прощания. А в это время все швыряют в кучу мебель. И дымится все. Я даже думал сделать так конец, но, может, это вульгарно получится, когда все выходят, рубят деревья, и пространство медленно сужается до минимального размера, а там стоит одинокий Фирс».
* * *
Пьеса, как известно, помимо всего прочего, отличается от любого драматического произведения тем, что в пьесе «разговаривают». Идет постоянный диалог – «петелька, крючочек». Иногда персонаж разражается монологом, но опять-таки на тему предыдущего разговора. А у Чехова этой последовательности нет. Люди иногда взрываются монологами, но как бы не к месту. Почему, например, Раневская исповедуется о своих «грехах» во 2-м акте? Или Лопахин там же о «великанах» и т. д. По воспоминаниям Бунина Чехов и в обычном разговоре не любил логичную последовательность диалога. Иногда он неожиданно, по каким-то своим внутренним ассоциациям, говорил что-нибудь противоположное происходившему. Кстати, об этих «провалах-лакунах» говорили между собой Мандельштам с Ахматовой, когда в стихотворении пропускается какая-нибудь логическая связь.
Но этот логический разрыв в диалоге кажущийся. На самом деле идет логическая внутренняя жизнь персонажа, которая внешне откликается монологами на атмосферу происходящего. Совершенно другой подход к драматургии. Многие чеховские современники говорили, что Чехов совершенно не «театральный» человек. Да и сам Чехов это не отрицал: «Не чувствую к своим пьесам ничего, кроме отвращения». И особенно после провала первой постановки «Чайки». Чехов говорил: «„Чайка“ отвратительна мне…» Или его же слова – «…зачем я писал пьесы, а не повести… я же не драматург».
А Станиславский, наоборот, называл Чехова именно «театральным человеком».
Конечно, пьесы Чехова в то время понимались очень немногими. Это потом манеру Чехова возьмет на вооружение так называемый «театр абсурда». Отсюда и Беккет, и Ионеску, и все другие современные драматурги.
И потом, думаю, что до Чехова не было в драматургии таких самообличительных монологов. Такого самовыражения. Такого психологического самоанализа. Боль, которая в душе постоянно, иногда выплескивается действительно не к месту. Почему, например, Тузенбах вдруг, не в контексте разговора, говорит о своей «русскости», что он даже не знает немецкого языка и этим гордится. «Я русский, православный, как вы», – говорит он Ирине, которую любит и поэтому готов забыть, что он немец. Это его больная тема, которая вдруг озвучивается.
Может быть, будучи врачом, Чехов чувствовал необходимость этих «облегчений души». Когда боль выговаривается, человек от нее освобождается. На этом построена православная исповедь и современный психоанализ.
Мой парижский знакомый Семен Израилевич Черток – известный психоаналитик – на мой вопрос, как он проводит свое лечение, ответил, что главное – нащупать в человеке его болевую точку, чтобы он начал о ней говорить, а потом, говорил Черток, я засыпаю. Это, конечно, шутка, но то, что боль выливается иногда многословием – в этом есть правда.
По воспоминаниям современников, Чехов, когда принимал больных, всегда старался разговорить их, чтобы они побольше говорили о своих болях, и сознательно стимулировал больных на эти самовыявления. Настоящий врач сопереживает больному. И психоаналитик, и Чехов «сливаются» с больным, понимая его целиком, а не частность болезни, и только так можно было найти панацею от этой болезни. Отсюда и можно понять «вживаемость» автора в персонажи. Идет раздвоение: я – автор и я – персонаж. Как, кстати, и в актерстве.
Но, странное дело, чем больше персонаж у Чехова «самовыражается» – тем таинственнее он является для нас – зрителей. Видимо, в самоанализе нет дна.
Так все-таки, к кому обращаются люди в этих самооткровениях? Ведь эти откровения возникают не в контексте, а как бы мимо только что прошедшей сцены. Они возникают поверх диалога и обращаются не к собеседнику, а к какому-то другому, не присутствующему здесь адресату. К тому, кто «знает еще что-то, чего мы не знаем» – как писал Андрей Белый в свое время. И собеседник не тот, кто в данный момент находится на сцене, а тот «идеальный», которого и на свете, может быть, нет.
И все-таки, несмотря на видимую нелогичность чеховских диалогов, внутренняя связь между репликами есть. Например, в 1-м акте Гаев возмущается, что «поезд опоздал на два часа. Каково? Каковы порядки», и Шарлоттина вслед реплика «а моя собака и орехи кушает» может показаться невключенностью, но на самом деле этой репликой Шарлотта ему отвечает, что, мол, какая ерунда ваш опоздавший поезд, вот то, что «моя собака и орехи кушает» – вот это имеет какое-то значение. Или дальше, в этом же акте, когда Варя мечтает о том, чтобы выдать Аню за богатого, а потом уйти в пустынь, в Киев, в Москву, – то Аня на это говорит как бы невпопад: «Птицы поют в саду» – мол, о чем ты говоришь! Смотри, какая красота кругом, и это главное, а не то, чтобы выдать меня за богатого. Но можно играть и не слушать друг друга – зритель сам подстроит второй план под эти реплики.
Главное – чтобы была найдена точная атмосфера.
* * *
В апреле, вечерами (днем у него репетиции во МХАТе), начались наконец ежедневные репетиции с Эфросом. Пошли с первого акта и все заново. Роли более или менее мы уже знаем, хоть и ходим по мизансценам с книжками. Я, как всегда, со шпаргалочками, рассованными по всем карманам. Эфросу это забавно. Посмеивается. Относится к нам, как к детям, которых надо чем-то занимать и поощрять. Предостерегал нас от сентиментальности, говорил, что лучше уйти в другую крайность – в ерничанье, хотя успех, добавлял он, возможен только тогда, когда гармонично сочетаются расчет, ум с сердечностью, детскостью, открытостью. Мне все, что он говорит, очень нравится. И его юмор, и посмеивание, и тоже детская заинтересованность, когда что-то получается.