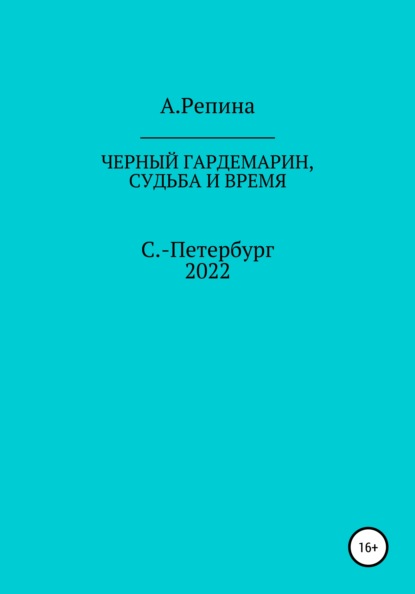По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Черный гардемарин, судьба и время
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На пристани вой баб, гомон дачной публики, никто ничего не понимает – все с вопросами к уряднику Нарбуту: «Василий Федорович! Господин урядник! Отец родной, объясни!» – слышится со всех сторон. Урядник и сам в крик, осаживает молодую бабенку с орущим младенцем на руках: «Да унеси ты его! Никаких нервов не хватит слушать ваши вопли!».
Мама и девочки тоже на берегу; наперебой рассказывают: односельчане были созваны набатом; вначале думали пожар, сбежались по обыкновению к пожарной дружине; у дружины уже стояли урядник и волостной начальник; объявили мобилизацию в 1 час; пароход приплыл забрать парней призывного возраста и мужиков из запаса.
«Учения?» – переспрашиваю я.
«Нет же, нет, Поль, мобилизация! Война!».
«С кем война?».
«Сказали, с австрийцем», – кричат с одной стороны.
С другой стороны: «С немцем». По-любому, за братьев славян, сербов: австрийцы коварно перешли сербскую границу, бомбили Белград с аэропланов.
Слышу, Вася Верзин громко переспрашивает несколько раз кряду чина из уездного воинского присутствия: будут ли записывать в Сербию добровольцами?
Чин в свою очередь кричит уряднику: мол, заканчивайте; в один час уже не укладываемся; покуда все села объедем – к ночи в Осташков вернемся; посмешище, а не мобилизация!
Урядник строит мобилизованных с их чемоданами; дает команду священнику служить молебен; певчие поют громко, отчетливо, а все равно не могут перекричать усиливающийся вой баб. Молебен окончен – односельчане троекратно лобызают и крестят каждого из построенных парней и мужиков; на глазах многих слезы. Мобилизованных парней и мужиков уводят на пароход, буквально отрывая от облепивших их семейств.
Урядник обращается к оставшимся с призывом соблюдать спокойствие; дачников просит не предпринимать в ближайшие дни никаких шагов по возвращению домой: практически все вагоны направлены на мобилизацию, железные дороги будут перегружены; гужевой транспорт реквизируется для мобилизационных нужд. Господ кадет и учащуюся молодежь просят оставаться в местах отпусков и ждать последующих распоряжений: не исключено, начало учебного года будет отнесено на время окончания военной кампании.
«Да здравствует русское войско!» – коротко закончил урядник Нарбут.
Несколько дам вибрирующими голосками затянули мазурку «Гей, славяне». Кто-то из москвичей-дачников выкрикнул: «Взгреем немцев!». На что реплика со стороны петербуржцев: «Ага. Устроим им Балтийские игры. А они нам и шведский город Мальме, и японскую нам Цусиму».
На следующий день, в пятницу, мы с Верзиным поставили парусок на моей шлюпчонке и отправились в Осташков: в уездное воинское присутствие; узнавать о записи добровольцами в Сербию. Ответ в воинском присутствии дали уклончивый. Де, кампания будет недолгой: Сербия невелика, попрем врага в два счета; хватит вояк и без нас.
Спустя два почтовых дня пришло письмо от Жондецкого 2-го (он к тому времени уже вернулся в Петербург). Сообщал, из-за войны в петербургском футболе воцарился хаос. Мобилизовали в армию многих футболистов: немцев в немецкую, русских в русскую. Абсурд: корнер Коломяг немец Шюман призван воевать против своего товарища по команде голкипера Борейши!
Жондюша ходил к нашему тренеру василеостровцев, чеху Вейводе. Тот вне себя: при таких порядках футбольная жизнь Петербурга еще не скоро войдет в привычную колею. Немцев в клубах не будет, временно не будет и международных встреч; играть в осеннем сезоне будут одни русские да наши союзники – англичане. Начало матчей на осенний кубок питерской футбольной лиги 1914 года неизвестно. Скептики вообще сомневаются, состоится ли в 14-м году осенний сезон.
Позже, когда подданные держав противника стали переходить в русское подданство и менять свои имена на русские, наш чех Алоиз Вейвода, австрийский подданный, стал Алексеем Воеводиным. Футболу это не помогло: новый сезон сорвался из-за мобилизации подавляющего большинства игроков Петербургской футбольной лиги. Наш спортивный кумир, корнер Коломяг Шюман, германский подданный, попал в русский плен. Голкипер Борейша был ранен; у него как нарочно прострелили руку в правой ладони – шутили, он ловил рукой пули Шюмана. В списки раненых Борейша попал еще до начала футбольного сезона, где-то на 7-й неделе войны. На этом и завершу тему футбола.
Из Петербурга в Петроград
Поначалу войну мы считали днями: 3-й день мобилизации, 5-й, 10-й; после счет пошел неделями: 2-я неделя германского заговора против Европы, 4-я неделя, 8-я…
Мы оставили Кравотынь на 6-й неделе войны. Уезжали из Петербурга – вернулись в Петроград. На Николаевском вокзале увидели автомобили с ранеными. Как переменилась жизнь столицы, переведенной на военное положение! А что произошло с публикой! Публика в трамваях стала подозрительна; откуда-то вмиг взялись деятельные дамы, пресекающие разговоры о войне, кои могут быть растолкованы как сеющие уныние. Ведь уныние на руку противнику и фактически измена! У главного штаба стоит очередь дам за справками об убитых и раненых; длинная очередь и в здание музея императора Александра Ш – в помещении этнографического музея справочное бюро о военнопленных при Красном Кресте. Газеты сообщают, мы взяли в плен 30 000; а сколько взяли наших? Каковы потери русских? Военная тайна. В газетах белые пятна – цензура.
Гнетущая обстановка усугублена холодом. Лето в столице прошло при 12 градусах; в конце августа ранняя осень с заморозками. Холода русскому войску некстати. В корпусе собирают башлыки, шарфы, перчатки; маменьки кадет выстраиваются в очередь у нашего Церковного подъезда, где принимаются пожертвования вещами; солдат-приемщик командует барынями: «махорку, свечи клади сюда – одежу туда».
В Первом кадетском средний возраст ставит перед каникулами пьесу «О крестовом походе против турко-германцев, бусурман и тевтонов» – сочинения кадета фон Штрика.
Барышни Фиалковские на рождественских каникулах направлены от Василеостровской женской гимназии в госпиталь на Большом проспекте, пишут письма за неграмотных и малограмотных.
Люля досадует: их работа в госпитале почти бессмысленна. Диктует нижний чин письмо: «Здравствуй, дорогой родитель. Кланяюсь вам, тятя и мама, желаю от господа бога доброго здравия. Посылаю письмо на священника, чтобы он вам прочитал»; а адрес? Не понимает. Откуда ты? «Из крестьянского сословия, а хутор наш на тракте». Губерния, уезд, волость? «Я, барышня, карт не знаю. Расея огромадна. Ты начальство спроси, откуда меня призывали».
В госпитале залежи писем, которые не могут быть доставлены, с адресами на деревню дедушке: «Получить Андреяну Егоричу в руки от сына его Егора Андреяныча». Или однополчанину: «Действующая армия, подвижная гошпитель, воспитательный полк (вероятно, питательный пункт), получить драгому товарищу Макару».
В один из дней каникул мы с Гавриловым заходим за сестрами в госпиталь, у нас билеты в кинематограф. Люля сидит в палате подле койки рыжего псковича и слушает его повествование: «У острияков с собою карточки их семейств. Сам острияк, жена острийка, дети острияки. Как только мы острияка настигаем, он, трус тевтон, ложится наземь, вытаскивает из-за пазухи карточки, показывает на жену-детей, просит не губить семью и сдается в плен».
«Сам видел?» – сдерживает зевок Люля.
«Не. Сказывали. А чехов, сербов и поляков из острийских подданных немец ставит вперед, в заградотряд. А сзади идут острийские команды с пулеметами» – «Сам видел?» – «Не. Сказывали».
В палате душно; солдат-служитель недоволен: присутствие барышень мешает справлять нужды раненых.
Отправились смотреть пропагандный «Дранг нах остен» и комедию «Амур в психиатрической больнице» (на что попались билеты). Обе ленты одинаково глупые.
Провожаем барышень домой и Мурка вдруг начинает попрекать нас с Гавриловым «бездеятельностью». Мол, «все идут воевать, а вы остаетесь в Петрограде – живые, здоровые, счастливые». По ее мнению, мы обязаны бросить корпус за два года до окончания и бежать в действующую армию. Де, ученик 5-й гимназии, брат ее одноклассницы, утром вместо гимназии поехал на вокзал, сел на поезд и отправился в Варшаву, из Варшавы пешком в воинскую часть, где получил винтовку и амуницию. Его контузили, ранили, дали медаль. Единственное, вернули в Петроград под опеку родителей.
«Форменный дурак, этот брат твоей подруги! – говорит Люля. –
Добавил седых волос мамаше и едва не свел в могилу папашу. Кошмар что устроил; как они носились по вокзалам, в штаб, в полицию! Герой! Прислали назад в вагоне с арестантами».
Перемышль
Март 1915 года принес надежду на приближающееся окончание войны. Взятие Перемышля! Нашим войскам сдалась первоклассная австрийская крепость; воскресли времена Плевны! После Перемышля театром военных действий станут Силезия, Моравия, Чехия. Из Чехии, где семь миллионов чешского народа и четыре миллиона словацкого ждут освободительного появления русских войск, удобный путь по долине реки Эльбы ведет в Саксонию; оттуда прямая дорога: на Берлин! Так тогда рассуждали.
В Петрограде в день известия о взятии Перемышля публика неистовствовала, несмотря на ужасную метель. Занятия отменили; учащаяся молодежь заполнила Невский; пели гимны, кричали ура, «на Берлин!», целовались с незнакомыми курсистками. Вьюга, флаги; более я никогда не видел столь восторженной толпы. Все возбуждены, всем весело!
Идем с барышнями Фиалковскими мимо городской думы – на каланче безуспешно водружают флаги, ветер их срывает; один полетел вниз, в кого-то попал – в публике веселье! Барышни замерзли – мы отправились в кинематограф «Монтрэ» на Садовой; смотрели американские съемки военных действий в Черногории и танцоров-негров.
По Садовой вернулись на Невский – застали безумие восторга: приветствуют государыню императрицу Марью Федоровну. У ней выезд из Аничкова дворца; молодежь облепила сани со всех сторон и не пропускает. Хотели качать сани на руках; Марья Федоровна еле отговорилась и продвигалась среди толпы крайне медленно, счастливо улыбаясь всем и милостиво кланяясь…
Музей ужасов войны
Затем проходят месяцы – конца войне не видно. Из осколков впечатлений 1915 года: уже и поздняя осень. Петроград украшен флагами и ельником; учащимся дали отпуск от занятий по случаю очередной годовщины восхождения на престол государя императора.
Кадет Гаврилов, барышни Фиалковские и я шлепаем под зонтиками по лужам мимо Исаакия. Направляемся в Мариинский дворец, где открыли Музей ужасов войны. Там представлены труды чрезвычайной следственной комиссии сената для расследования нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и германскими войсками.
В музее картина апокалипсиса: фотографические снимки.
Скелет воина, повисший на заграждении из колючей проволоки; черный дым от сжигания груды мертвых тел на поле боя; сотни павших лошадей; британские врачи оказывают помощь немецким раненым; наши раненые, добитые штыками и ружейными прикладами; портреты нижних чинов с вырезанными языками и глазами, вытекшими из орбит от немецких газов… Европа усеяна телами убитых. Люди ХХ века сошли с ума.
Публики в музее нет. Служитель сообщает: посещают музей весьма немногочисленные любопытные, не у всех хватает нервов хладнокровно переносить ужасы германских и австрийских зверств, чинимых с нашими военнопленными.
Ко всему прочему публика притерпелась к войне, говорит служитель.
Бегство Гаврилова, фортель Мурки
Вот уже и вторая зима войны. В ноябре 1915 года кадет Гаврилов не является в корпус к началу занятий 2-й четверти. Выясняется, он отправился в действующую армию. Письмо от него приходит ближе к рождеству: Гаврилов несет службу нижним чином в 10-м Сибирском стрелковом полку.
Мурка страшно тосковала по Гаврилову! И выкинула фортель: рванула вслед за ним на театр военных действий. После уроков поехала на вокзал, поездом отправилась вначале в Гатчину. В Гатчине зашла в парикмахерскую, остригла себе волосы и здесь же их продала. На вырученное купила на рынке мужской костюм. По пути обратилась с каким-то вопросом к ремонтным рабочим – была задержана и доставлена в полицию.
Мы с Люлей с ума сходили в розысках Мурки, не потрудившейся даже оставить письмо о своих намерениях! Взяла и не явилась с уроков в гимназии домой – вместо этого села на трамвай и поехала на вокзал. Преступное безразличие к близким, гневалась Люля!
Только на второй день ее побега пришла телеграмма из Гатчины. Люлька испугалась, что Мурку отправят в Петербург в вагоне с арестантами, как это делали со всеми задержанными при побеге на фронт гимназистами и кадетами; и мы сами рванули в Гатчину.