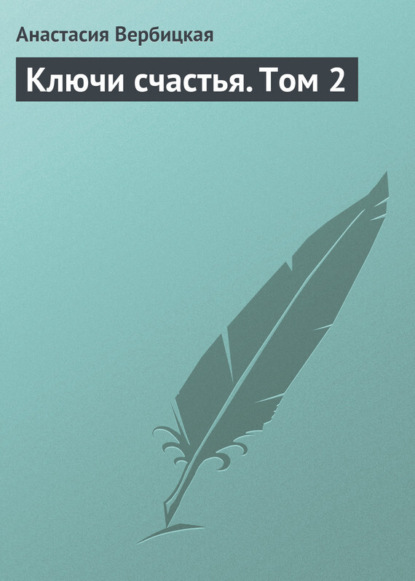По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ключи счастья. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Еще бы! Это интереснейшая женщина из всей русской колонии! Она пользуется огромным уважением. Поезжайте к ней сейчас же. Она всегда дома от четырех до семи.
– Где же она пишет? – спрашивает Маня.
– Она сотрудница «Revue blanche» и «Revue de deux mondes»[11 - Французские литературные журналы начала века.]. Пишет по-французски. О русской литературе больше всего. Многих писателей наших перевела. Она очень талантлива. Это недюжинная женщина. И я рада, что вы ее увидите. Между прочим, она социалистка. Вам это говорила Зина? Она сблизилась с французскими рабочими. Настолько сошлась с ними, что совершенно порвала с так называемыми «буржуа»…
– Как странно! – задумчиво шепчет Маня.
На прощанье Женя опять жмет им руки горячо и доверчиво. Глаза ее с невольной завистью останавливаются на лице Мани, на своеобразно смелом изгибе ее бровей и губ.
– Вы, наверное, любите жизнь? – вдруг срывается у нее грустно и робко.
– Люблю! – говорит она.
И улыбается так широко и радостно, что в комнате точно светлеет.
– И не боитесь ее?
– Я? Что бы она ни дала мне впредь, я благословляю ее за все. И далее страдания и слезы мои я буду любить, когда они придут. Все это жизнь. Прекрасная жизнь!
– Зяма… – шепчет Маня, большими глазами глядя на Соню.
– Что он тут делает? Сторожит кого-то? Господи! У меня даже сердце забилось.
– Почему он в Париже?
– Он писал Розе, что учится здесь. Она ему даже денег посылала.
– Как ты думаешь, он нас тоже узнал?
– Конечно. И чего-то испугался.
При свете фонаря они читают на белой дощечке, прибитой у двери подъезда, Nina Glinska. Соня входит на крыльцо. Она слышит явственно за дверью мужской голос, говорящий по-русски: «Вы ничем не рискуете. За вами не следят. И мы примем меры…» – «Вам я не смею отказать», – звучит еще явственнее ответ.
В то же мгновение распахивается дверь. Из квартиры выходит человек. Он так высок и худ, что кажется воплотившимся Дон-Кихотом. Он очевидно смутился, увидав девушек. Они мельком видят бледное лицо аскета, белокурую бородку, тесно сжатые губы и холодный взгляд серых глаз.
Незаметным жестом он надвигает шляпу на брови, так, что лицо его остается в тени. Но Маня говорит себе, что даже через десять лет, увидав в толпе это лицо, она его узнает.
– Pardon! – говорит он, чуть дотрагиваясь до шляпы и словно пронзая взглядом чужие лица.
Слегка согнувшись, высокий, весь в черном, он проходит под аркой ворот и скрывается.
– Зяма пришел с ним, – шепчет Соня. Кто-то держит изнутри дверь на цепочке, и на Маню пристально глядят чьи-то глаза.
– Кого вам угодно? – слышат они женский голос. Женщина спрашивает по-французски.
– Madame Glinska, une lettre di Russie[12 - Госпожа Глинская, письмо из России (франц.).], – быстро говорит Соня.
Через мгновение они уже в передней. Там совсем темно.
– Вы русские? – спрашивает женщина. И холодок недоверия звучит в ее голосе.
– Да… Вам письмо от Зины Липенко… Я из Москвы.
– Ах, вот как? От Зины? Пожалуйста, войдите.
Она запирает дверь, накладывает цепочку. Ее манеры меняются мгновенно. Она идет в следующую комнату, откуда в переднюю падает широкая полоса света, и делает грациозный жест рукой.
– Пожалуйста, разденьтесь.
Это среднего роста стройная женщина, лет тридцати пяти. Она одета строго, вся в черном. Ее светлые волосы лежат в бандо вдоль щек, худых и отцветающих. Глаза ее светлые и холодные. У нее умный лоб, смелые брови, темные волосы, и тонкая улыбка.
Через маленькую столовую она ведет их в свой кабинет. Это большая и мрачная комната, совсем лишенная женственных украшений и кокетливых мелочей. Все темно, строго, солидно. Кабинет мужчины. Лампа под зеленым абажуром озаряет рабочий стол, заваленный книгами и рукописями. Переплеты тускло поблескивают позолоченными корешками за стеклом шкафа. На стене портреты Элизе Реклю и Кропоткина. В глубине комнаты рояль.
«Она любит музыку. Может быть, сама играет и поет», – думает Маня.
– Прошу садиться, – ласково говорит Глинская, придвигая себе кожаное кресло. – Я сейчас пробегу письмо.
Девушки озираются с любопытством и смущением. Они обе бессознательно робеют перед этой женщиной. Разве не сумела она устроить свою жизнь по-новому? Не отвергла ли она торные дороги? Не идет ли она, одинокая и гордая, по пути, подсказанному ей убеждением, чувством, призванием? Ее обстановка буржуазна. «Но ведь это все нажито ее собственными трудами, – думает Соня. – Каждый стул, каждая чашка в этой квартире куплены на ее трудовые деньги. И если она любит комфорт, кто смеет упрекнуть ее в этом? Разве каждый рабочий не стремится украсить свою жизнь радостями мещанина? Ведь это только удовлетворение самых законных эстетических потребностей?»
– Вы надолго сюда? – приветливо спрашивает Глинская, складывая письмо.
– Увы! У меня только одна неделя. А Париж необъятен…
Нина Глинская смеется и становится более ственной.
– В самом деле, здесь можно растеряться. Не могу ли я помочь вам? Что вы хотели бы видеть?
Соня открывает рот. Беспомощно разводит руками.
– Все! – срывается у нее.
Маня не может удержать смеха. Глинская тоже звонко хохочет и кажется теперь моложе лет на десять.
– Однако из всего надо выбрать только немногое. Вот сейчас с одного слова вы раскроетесь передо мною. Что вас больше интересует за границей? Люди? Или вещи? Под этим я понимаю: соборы, музеи, памятники.
– Конечно, люди! – вскрикивает Соня. «А меня, конечно, вещи», – думает Маня.
– Ну вот и договорились! В Сорбонне были?
– Завтра идем и туда, и сюда.
– А завтра вечером общее собрание феминистской Лиги «Les droits des femmes»[13 - «Права женщин» (франц.).]… Хотите со мною?
– Еще бы! Как я рада!
– А разве это не скучно? – спрашивает Маня, поднимая левую бровь.
– Как для кого, – отвечает Глинская, тонко улыбаясь. – Я нахожу эту лигу крайне интересной с тех пор, как в нее, вопреки желанию учредителей и председательницы, влилась новая волна: женщин-работниц.
– Где же она пишет? – спрашивает Маня.
– Она сотрудница «Revue blanche» и «Revue de deux mondes»[11 - Французские литературные журналы начала века.]. Пишет по-французски. О русской литературе больше всего. Многих писателей наших перевела. Она очень талантлива. Это недюжинная женщина. И я рада, что вы ее увидите. Между прочим, она социалистка. Вам это говорила Зина? Она сблизилась с французскими рабочими. Настолько сошлась с ними, что совершенно порвала с так называемыми «буржуа»…
– Как странно! – задумчиво шепчет Маня.
На прощанье Женя опять жмет им руки горячо и доверчиво. Глаза ее с невольной завистью останавливаются на лице Мани, на своеобразно смелом изгибе ее бровей и губ.
– Вы, наверное, любите жизнь? – вдруг срывается у нее грустно и робко.
– Люблю! – говорит она.
И улыбается так широко и радостно, что в комнате точно светлеет.
– И не боитесь ее?
– Я? Что бы она ни дала мне впредь, я благословляю ее за все. И далее страдания и слезы мои я буду любить, когда они придут. Все это жизнь. Прекрасная жизнь!
– Зяма… – шепчет Маня, большими глазами глядя на Соню.
– Что он тут делает? Сторожит кого-то? Господи! У меня даже сердце забилось.
– Почему он в Париже?
– Он писал Розе, что учится здесь. Она ему даже денег посылала.
– Как ты думаешь, он нас тоже узнал?
– Конечно. И чего-то испугался.
При свете фонаря они читают на белой дощечке, прибитой у двери подъезда, Nina Glinska. Соня входит на крыльцо. Она слышит явственно за дверью мужской голос, говорящий по-русски: «Вы ничем не рискуете. За вами не следят. И мы примем меры…» – «Вам я не смею отказать», – звучит еще явственнее ответ.
В то же мгновение распахивается дверь. Из квартиры выходит человек. Он так высок и худ, что кажется воплотившимся Дон-Кихотом. Он очевидно смутился, увидав девушек. Они мельком видят бледное лицо аскета, белокурую бородку, тесно сжатые губы и холодный взгляд серых глаз.
Незаметным жестом он надвигает шляпу на брови, так, что лицо его остается в тени. Но Маня говорит себе, что даже через десять лет, увидав в толпе это лицо, она его узнает.
– Pardon! – говорит он, чуть дотрагиваясь до шляпы и словно пронзая взглядом чужие лица.
Слегка согнувшись, высокий, весь в черном, он проходит под аркой ворот и скрывается.
– Зяма пришел с ним, – шепчет Соня. Кто-то держит изнутри дверь на цепочке, и на Маню пристально глядят чьи-то глаза.
– Кого вам угодно? – слышат они женский голос. Женщина спрашивает по-французски.
– Madame Glinska, une lettre di Russie[12 - Госпожа Глинская, письмо из России (франц.).], – быстро говорит Соня.
Через мгновение они уже в передней. Там совсем темно.
– Вы русские? – спрашивает женщина. И холодок недоверия звучит в ее голосе.
– Да… Вам письмо от Зины Липенко… Я из Москвы.
– Ах, вот как? От Зины? Пожалуйста, войдите.
Она запирает дверь, накладывает цепочку. Ее манеры меняются мгновенно. Она идет в следующую комнату, откуда в переднюю падает широкая полоса света, и делает грациозный жест рукой.
– Пожалуйста, разденьтесь.
Это среднего роста стройная женщина, лет тридцати пяти. Она одета строго, вся в черном. Ее светлые волосы лежат в бандо вдоль щек, худых и отцветающих. Глаза ее светлые и холодные. У нее умный лоб, смелые брови, темные волосы, и тонкая улыбка.
Через маленькую столовую она ведет их в свой кабинет. Это большая и мрачная комната, совсем лишенная женственных украшений и кокетливых мелочей. Все темно, строго, солидно. Кабинет мужчины. Лампа под зеленым абажуром озаряет рабочий стол, заваленный книгами и рукописями. Переплеты тускло поблескивают позолоченными корешками за стеклом шкафа. На стене портреты Элизе Реклю и Кропоткина. В глубине комнаты рояль.
«Она любит музыку. Может быть, сама играет и поет», – думает Маня.
– Прошу садиться, – ласково говорит Глинская, придвигая себе кожаное кресло. – Я сейчас пробегу письмо.
Девушки озираются с любопытством и смущением. Они обе бессознательно робеют перед этой женщиной. Разве не сумела она устроить свою жизнь по-новому? Не отвергла ли она торные дороги? Не идет ли она, одинокая и гордая, по пути, подсказанному ей убеждением, чувством, призванием? Ее обстановка буржуазна. «Но ведь это все нажито ее собственными трудами, – думает Соня. – Каждый стул, каждая чашка в этой квартире куплены на ее трудовые деньги. И если она любит комфорт, кто смеет упрекнуть ее в этом? Разве каждый рабочий не стремится украсить свою жизнь радостями мещанина? Ведь это только удовлетворение самых законных эстетических потребностей?»
– Вы надолго сюда? – приветливо спрашивает Глинская, складывая письмо.
– Увы! У меня только одна неделя. А Париж необъятен…
Нина Глинская смеется и становится более ственной.
– В самом деле, здесь можно растеряться. Не могу ли я помочь вам? Что вы хотели бы видеть?
Соня открывает рот. Беспомощно разводит руками.
– Все! – срывается у нее.
Маня не может удержать смеха. Глинская тоже звонко хохочет и кажется теперь моложе лет на десять.
– Однако из всего надо выбрать только немногое. Вот сейчас с одного слова вы раскроетесь передо мною. Что вас больше интересует за границей? Люди? Или вещи? Под этим я понимаю: соборы, музеи, памятники.
– Конечно, люди! – вскрикивает Соня. «А меня, конечно, вещи», – думает Маня.
– Ну вот и договорились! В Сорбонне были?
– Завтра идем и туда, и сюда.
– А завтра вечером общее собрание феминистской Лиги «Les droits des femmes»[13 - «Права женщин» (франц.).]… Хотите со мною?
– Еще бы! Как я рада!
– А разве это не скучно? – спрашивает Маня, поднимая левую бровь.
– Как для кого, – отвечает Глинская, тонко улыбаясь. – Я нахожу эту лигу крайне интересной с тех пор, как в нее, вопреки желанию учредителей и председательницы, влилась новая волна: женщин-работниц.