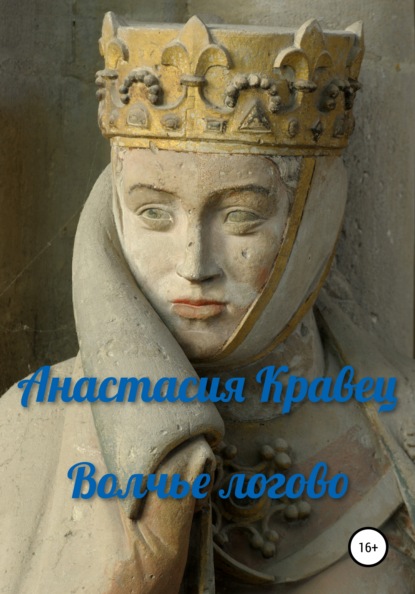По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волчье логово
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако, Жозеф не был холоден и безжалостен. В прошлом он оставил слишком пылкую привязанность. Когда-то трогательная дружба связывала его и с аббатом. Но, с течением времени, связи с людьми постепенно разрушились в его душе, оставив только мертвые, обманутые надежды…
Думал ли он когда-нибудь о любви, о тех глубоких и сильных чувствах к женщине, которым некоторые способны отдать всю свою жизнь, до того, как монастырское одеяние, навсегда закрыло перед ним дорогу пылких страстей? Если и думал, то в мире он любви не встретил. В молодости он слышал все эти прекрасные и манящие легенды о неразрывно связанных, пылающих сердцах, о трогательных и печальных смертях юных и несчастных влюбленных. Легенды о Тристане и Изольде, об Эреке и Эниде.[8 - Сюжет о любви Тристана и Изольды был очень распространенным в средневековой европейской литературе, о них писали разные авторы, в том числе Тома и Мария Французская. «Эрек и Энида» – рыцарский роман Кретьена де Труа.] Об этом красочно и возвышенно повествовали рыцарские романы, но ничего подобного не существовало в реальной жизни. В жизни существовали буйные и дикие сеньоры, которые, не задумываясь, награждали побоями своих несчастных и озлобленных жен…
Любовь… Что это? Странная и зыбкая иллюзия, которую создали мечтатели-поэты. Если тела мужчины и женщины соединятся, разве люди станут от этого любить друг друга? Жозеф уже знал, что это не так… Как можно полюбить чужую и незнакомую тебе женщину? Что значит любить? Что может быть такого в раскрашенной и вздорной кукле, чтобы хотелось оставаться подле нее дни и ночи напролет, забыв о ходе быстро летящего времени?.. Какая невероятная и лживая нелепость!
Быть может, за всеми этими презрительными рассуждениями Жозефа о чувствах скрывалось нечто большее. Он никогда не знал, что такое любовь. Он сторонился ее. Он не хотел ни с кем делить свою жизнь, свои витражи и свое одиночество. Кто знает, возможно, он боялся новой, еще более нестерпимой боли… Любить и привязываться было для него тяжело и страшно…
Не пробовал ли он искать смысл безрадостного существования в своих многоцветных, сияющих, чудесных стеклах?
Их он любил. Они отвлекали его от мучительных страданий и жестоких несправедливостей окружающего мира. Он хотел бы полностью погрузиться в мир своих витражей и уйти от несчастий и хаоса, царящего вокруг. Но замкнуться в этой придуманной вселенной было невозможно. Потому что она была лишь отражением живых и страшных драм, происходящих вокруг.
Для чего он рисовал? Что толкало его к этому?
Несомненно, желание забыть о боли. Потому что, когда Жозеф видел перед мысленным взором сверкающие и безумные творения своего воображения, когда он судорожно чертил хаотичные и удивительные эскизы, когда нервно и задумчиво расписывал тонкие стекла яркими красками, он забывал обо всем на свете… Для него не существовало больше ни боли, ни радости. Не существовало и его самого. Существовали Давид и Вирсавия, Ребекка и Мария, Иисус и апостолы, и ничего во всей вселенной не было важнее их…
Но как только последняя складка ложилась на одежду святого, как только последний штрих очерчивал деревья и небеса на дальнем плане картины, Жозеф терял к ним всякий интерес, как влюбленный утрачивает прежнее чувство к постаревшей любовнице. Мир снова становился пустым и чуждым, и не было ничего, способного хоть немного его скрасить…
Быть может, он рисовал для того, чтобы зрители прониклись его замыслами и поняли их? Еще одна безумная иллюзия! Разве хоть один человек на свете способен был пройти тем же извилистым и странным путем ощущений, которые вели Жозефа к созданию его причудливых картин? Это было невозможно. Когда он нарисовал Саломею с головой Иоанна Крестителя, то Ульфар сказал ему, что это весьма поучительно, брат Колен – что Саломея хитра и изворотлива, а отец Франсуа – что картина пугает, а участь Иоанна ужасна. Откуда им всем было знать, что Саломея опустошена и несчастна, а об участи Иоанна мы не можем сказать ничего определенного, ибо он пребывает в вечности…
Но если бы даже они и поняли это, что изменилось бы в душе самого Жозефа? Разве его покинула бы эта давящая тоска, это ледяное одиночество? Что значат пустые слова, которыми обмениваются люди? Они не способны ничего изменить…
Он рисовал и для того, чтобы крикнуть о своей боли. Крикнуть в пустоту. В муках и драмах создаваемых им библейских персонажей он рыдал и восклицал о своих непрекращающихся страданиях. Его печаль покрывала черты Спасителя в Гефсиманском саду, его мечтами упивалась Ребекка у своего колодца, от его боли разрывалось сердце скорбящей у креста Марии. Не только от его. От боли всех виденных им людей, которую он запечатлел в своем сердце, чтобы однажды она засияла на величественном витраже…
Правда, в последнее время Жозефу стало казаться, что вдохновение все чаще покидает его. Что, если оно исчезнет совсем? Должно быть, в тот день, когда это случится, он поседеет от ужаса. Потому что ему нечего станет делать в мире. Проснуться, пойти на мессу и оказаться наедине с собой, в еще более адской пустоте, чем раньше… Он предпочел бы лучше умереть.
Иногда его ожесточенное, тревожное сердце посещали совсем иные страхи. Он думал, что однажды его искусство убьет его. Когда он был слишком увлечен интересным рисунком, в крови его просыпался такой иссушающий жар и пыл, что он не мог ни на мгновенье прервать своего занятия. Он не мог ни заснуть, ни прикоснуться к еде, пока кисть, как безумная, сама по себе летала в его дрожащих руках. Прерваться было немыслимо. Он страдал от бессонницы и сильной жажды, его лоб начинал гореть, глаза уставали, рука ломила, но злой дух, овладевший им, не давал прервать работу хоть на мгновение, не давал сделать ни одного полного и спокойного вдоха, пока последний оттенок не ложился на лицо святого, и кисть не выпадала из обессиленной, опустившейся руки…
В такие минуты Жозеф с тревогой думал, не суждено ли ему самому однажды упасть мертвым, не окончив приковавшую к себе, убийственную картину…
Когда смерть виделась такой близкой, она пугала его.
И все-таки, у Жозефа была одна-единственная, сокровенная мечта. Она хранилась где-то в самой сокровенной глубине его сердца, под слоем ненависти, презрения и жестокого разочарования.
Он страстно жаждал, чтобы однажды хоть одно человеческое существо могло, как при ослепительной вспышке молнии, увидеть весь мрачный ад его полумертвой души: все его тяжкие пороки и мучительные сомнения, все его бессонные и наполненные скукой дни, всю его жестокую боль и все его безумные надежды… Он хотел, чтобы другое сердце прочувствовало каждое малейшее его ощущение и душевное движение, каждую его печаль и радость. Только увидев и ощутив все это, можно в полной мере понять и простить чужое безумие и порок. Ему не нужно было пустое, жалкое сострадание, которое могли предложить ему люди. Ему нужно было огромное и безмерное сострадание, достойное самого падшего Люцифера!
Иначе, зачем ему весь этот чужой, бессмысленный и холодный мир, полный нелепых и громоздких установлений, нисколько не способный понять даже малую долю его жестокого горя?! Он отвергал этот мир.
Жозеф прекрасно сознавал, что полное понимание, о котором он мечтал, в жизни невозможно. Люди не могли ему этого дать, бог казался чужим и далеким…
Но ему нужно было именно это, и ничто другое. От того, что его страстная потребность, его великая мечта, была недостижимой, она становилась только сильнее и необходимее. Его безумная душа изошла кровью, пока десять лет, как плененная птица, билась грудью о железные прутья недостижимого…
Странно, но почему-то Жозефу никогда не подходило то счастье и радости, которые могли сделать счастливыми всех остальных людей на земле. Ему нужно было какое-то свое, ни на что непохожее, удивительное счастье, которому в узком и нелепом мире нет места.
Быть может, он сам не знал, что ему нужно.
Брат Ульфар постоянно пытался наставить его на путь истинный, отец Франсуа с отчаянием в голосе просил его наконец взять себя в руки и зажить человеческой жизнью.
Но в том-то и дело, что этой «человеческой жизнью» Жозеф никогда жить не мог. Все порядочные люди радовались свету дня, он мог существовать лишь ночью. В этом строго устроенном мире люди молились, воевали, сеяли зерно или, на худой конец, торговали. Но Жозеф, родившись среди сеньоров, и надев монашескую сутану, не мог ни воевать, ни молиться. Он мог только рисовать…
Все люди мечтали о высоких титулах и богатстве, о радости и процветании, о счастливом браке и лекарствах от тяжких недугов тела. Ему не нужно было ни роскоши, ни веселья, ни любви, ни славы. Ему нужно было только лекарство от душевных ран, его витражи и немного лунного света… Но это малое оказывалось более недостижимым, чем все богатства мира…
Колени затекли и заболели. Наверное, он уже долго сидел так, горестно улыбаясь и бесцельно рассматривая то черные тени колеблющихся ветвей, такие же неспокойные, как он сам, то тонущий во тьме потолок, которого не касались робкие лунные лучи. Сон горожанина был по-прежнему спокоен и безмятежен. А его мысли все так же мучительны и бесполезны.
Сколько прошло времени с тех пор, как он поссорился с братом Ульфаром? Сколько прошло времени с тех пор, как он глубокой ночью в ужасе и отчаянии прибежал к воротам этого старого монастыря? Скоро ли наступит проклятый рассвет?..
Ответом на эти печальные мысли одинокого монаха стал глухой, замогильный звон колокола, призывавшего к заутрене. Эхо его разносилось далеко по самым глухим закоулкам священной обители.
Этот заунывный, печальный звук разбудил Жиля. Прямо напротив себя он увидел неподвижного и немого, как надгробная статуя, сарацина. Лицо его было бледным, как расплавленный воск, глаза потухшими, на губах блуждала странная, пугающая улыбка. В голубоватом лунном свете он казался каким-то нечеловеческим существом, стоящим на пороге между миром живых и миром призраков…
VIII. Неприятный разговор
В тринадцать вы блистали: в тринадцать лет вы были милы, любезны, тонки и умны, как никогда впоследствии; то был последний всполох солнца на закате; однако, есть различие: наутро солнце взойдет опять, детская же одаренность, единожды угаснув, не вернется никогда. Часто говорят, что бабочка появляется из гусеницы; у людей наоборот: гусеница – это бывшая бабочка. Ваш гений угас, когда вам было четырнадцать; вы превратились в грубоватого юнца, который звезд с неба не хватал.
А. де Монтерлан «Мертвая королева»
Разве я виноват, что я не такой, как вы? Никогда – вернее, уже очень давно – вы не выказывали ни малейшего интереса к тому, что занимало меня. Вы даже не пытались претвориться, что вам это хотя бы любопытно.
А. де Монтерлан «Мертвая королева»
Жозеф так и не уснул в эту ночь. А наутро явился брат Ватье и сообщил, что его хочет видеть настоятель.
Это показалось Жозефу странным, так как в последнее время отец Франсуа избегал разговоров с ним наедине. Тем не менее, он сразу же пошел к настоятелю, хотя подавленное настроение и бессонная ночь вовсе не располагали к ведению оживленных бесед.
Келья аббата была немного больше и просторнее, чем кельи остальных братьев. Здесь было светлее и свежее, чем во всем мрачном и печальном здании. Большой, крепкий стол, заваленный старыми книгами и бумагами, придавал комнате некоторое сходство с рабочим кабинетом. На стене висело строгое деревянное распятие, не украшенное ни драгоценностями, ни позолотой. Очевидно, почтенный настоятель, несмотря на всю свою утонченность, не приветствовал излишества и роскошь в стенах монастыря. Обстановку в келье немного оживлял букетик из высушенных синих васильков с пушистыми, резными лепестками, украшавший распятие, и два красивых стеклянных флакончика с искусными крышками, которые стояли на столе среди книг и писем.
Брат Жозеф, небритый, со спутанными, непослушными волосами, в измятой сутане и с угрюмым и замкнутым выражением лица, казался чем-то чуждым и ненужным в этой светлой комнате.
Сам отец Франсуа, как всегда одетый с аккуратностью, какую только позволяли те времена и его образ жизни, сидел за столом, углубившись в чтение лежавшей перед ним книги.
– Мой дорогой Жозеф, – сказал настоятель, подняв голову при появлении сарацина, – я должен поделиться с вами одной нелегкой заботой…
– Что произошло? – спросил брат Жозеф настороженно и тревожно. Слова аббата сразу вывели его из состояния отрешенности и равнодушия, в котором он пришел сюда.
– Вам известно, что около месяца назад я потерял одного из моих старых друзей, да упокоит Господь его душу, отца Готье, который исполнял должность капеллана в замке сеньора де Сюрмона. Я знал его с давних пор и был к нему сильно привязан… Мы вместе предавались воспоминаниям о беспечных и веселых годах нашей юности. Любезный Готье сопровождал меня в поездках в город, когда того требовали дела монастыря, и оказывал мне многие другие ценные услуги. Ах, как нелегко смириться с потерей близкого и дорогого существа! Как нелегко поверить в то, что больше не услышишь знакомый голос и не увидишь привычного лица… Остается лишь хранить все это в сокровищнице наших воспоминаний…
– Я понимаю вас, – медленно проговорил Жозеф.
– Да, – горько вздохнув, отвечал аббат, – к сожалению, всем нам знакомы потери и злые печали этого мира… Они не обошли стороной и нас с вами. Увы, смерть отца Готье лишила нашего славного мессира Анри замкового капеллана, который был ему необходим. Но, вы же знаете, в нашей глуши не так-то просто найти достойного и хорошего человека на это место. Сеньор де Сюрмон очень опечален. Он обратился ко мне с горячими просьбами помочь ему. Не зная, как быть, я пообещал ему прислать кого-нибудь из братьев, кто взял бы на себя обязанности капеллана хотя бы на время.., – тон настоятеля становился все более нерешительным. – Я подумал… быть может… Мой дорогой Жозеф, ведь вы все равно ничем важным не заняты…
Выражение сочувствия и участия на лице сарацина мгновенно сменилось пылким гневом и жестоким раздражением.
– Чудесно! – воскликнул он. – Вы решили помучить меня еще одним милым поручением! То этот проклятый горожанин, которого вы поселили у меня в келье, то служба сеньору де Сюрмону! Почему вы никогда не обращаетесь с просьбами к другим братьям? Или вы настолько ненавидите меня, что больше не желаете видеть моего лица?!
– Ненавижу вас?! – ужаснулся отец Франсуа, приложив руку к груди. – Прошу вас, не говорите так. Мое бедное сердце этого не выдержит! Как я могу вас ненавидеть?! Я был так привязан к вашей чудесной матери… Я так заботился о вас, дитя мое. Откуда столько необузданного и жестокого гнева в ваших словах? Как меня печалит ваше безумное поведение… Я вовсе не хочу отсылать вас надолго. Каких-нибудь три-четыре часа в день… Неужели вы не можете посвятить их сеньору де Сюрмону?
– Три часа – это вечность! Это вечность, когда думаешь о сочетании красок, о цвете облаков, о выражении лица Марии, о складках на одеждах Иисуса! Это вечность, когда чертишь наброски на бумаге, боясь упустить единое мгновение, чтобы не забыть ни малейшей детали! Посмотрите на меня! Неужели вы не понимаете, что витражи по капле высосали мою кровь! В ваши юные годы, отец Франсуа, вы смеялись и радовались жизни, а я рисовал! Вы улыбались женщинам и танцевали на праздниках, а я рисовал! В моей жизни не оставалось времени ни для единой радости, кроме изгибов линий и чарующего блеска… О, вы не понимаете! Если бы я даже захотел предаться веселью, пирам и танцам, Мария, апостолы, Иоанн, Иосиф… они не позволили бы мне! Они являлись бы мне во сне и звали бы за собой! Но я даже не хотел… Моя душа была так полна всем этим великолепием, что радости других показались бы мне жалким подобием моего огненного вдохновения. Три часа! Откуда я могу знать, три года или три дня ждут меня впереди?! Три окна еще не расписаны… Иногда у меня нет времени, чтобы напиться…
– Боже мой, Жозеф, мальчик мой, успокойтесь, – сказал встревоженный его волнением настоятель, кладя руку на плечо сарацина.