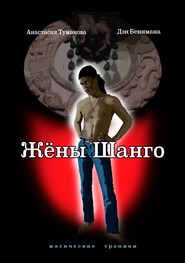По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Убежим с тобой, желанная
Автор
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Полынь – сухие слёзы
Анастасия Туманова
Королева исторического романа
Крепостная девушка Устинья, внучка знахарки, не по-бабьи умна, пусть и не первая красавица. И хоть семья её – беднее некуда, но именно Устю сватает сын старосты Прокопа Силина, а брат жениха сохнет по ней. Или она и впрямь ведьма, как считают завистницы? Так или иначе, но в неурожае, голоде и прочих бедах винят именно её. И быть бы ей убитой разъярённой толпой, если бы не подоспели Силины. Однако теперь девушке грозит наказание хуже смерти – управляющая имением, перед которой она провинилась, не знает пощады. Где искать спасения, кому бить челом? Вся надежда на молодого барина Никиту Закатова – к нему и отправляются Устя и верные братья…
Анастасия Туманова
Полынь – сухие слёзы
© Туманова А., 2013
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Над Бельским уездом Смоленской губернии раскинулся душный предгрозовой вечер лета 1830 года. Воздух был тяжёлым, густым, столбики насекомых жужжали над клонящейся к земле рожью. Раскалённое солнце в дымном зареве падало за холмы, а с востока, из-за леса, поднималась сизая туча.
Помещик Владимир Закатов, полковник в отставке, высокий седеющий человек сорока пяти лет, с острым сухим лицом и ястребиными глазами, задумчиво мял сорванный колосок. За ним внимательно наблюдал Прокоп Силин – огромный, словно грубо вытесанный топором из лесной коряжины мужик. Рядом, на дороге, виднелась телега, вяло хрумкала травой саврасая кобыла.
– Так, по-твоему, Прокоп, можно начинать? – сомневаясь, спрашивал Закатов. – У Браницких ещё не жали…
– По мне, так ещё на той неделе начинать надо было, – пожал могучими плечами Прокоп. – Браницкие пусть что хотят делают, у них запашки, не в обиду вам будь сказано, на сорок десятин больше! Они и рожь упустят – не в убытке останутся. А мы?! Того гляди, ржица-то посыпется! Ещё и непогодь вон какая тащится, пронеси, господи… – Он озабоченно задрал к темнеющему небу бороду, сощурился. – А ну как градом ударит? Пора, барин, как хочешь, – пора! Прямо вот завтра!
– Что ж, тогда, возможно… – Полковник не договорил: Силин вдруг резко повернулся всем телом к дороге, на которой ещё минуту назад не было ни души. Теперь же по ней кто-то отчаянно пылил босыми ногами. Полковник с Силиным переглянулись и, не сговариваясь, зашагали навстречу.
Облако жёлтой пыли приблизилось, оглушительно чихнуло и оказалось потной, встрёпанной девкой с вытаращенными глазами. Увидев барина, она всплеснула руками и хрипло закричала, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание:
– Барин, ради бога… Ох… Аполлинарья Петровна… Охти, батюшки, не могу… Они… барыня наша, ой… У них, кажись, с утра-то началося… И худо… Ох, худо совсем… Вас по всем работам ищут… Ох, поспешайте за-ради Христа…
Лицо Закатова побледнело. Одним прыжком он оказался возле задыхающейся девки, несколько раз с силой, наотмашь, ударил её по лицу:
– Говори, мерзавка! Говори ясней, что с барыней?!
Девка взвыла с перепугу и принялась отчаянно икать. Застонав сквозь зубы от бешенства, Закатов замахнулся было снова, но в это время его с силой, без всякого почтения хлопнули по плечу.
– Поспешай, барин, залазь в телегу! – раздался суровый окрик. – Даст бог, поспеем! Да брось дурищу эту, толку-то с неё, вишь, языка лишилась!..
Прокоп Силин уже сидел на передке телеги, сосредоточенно разбирал вожжи. Опомнившийся Закатов по-молодому быстро вспрыгнул к нему. Прокоп завертел концом вожжей над головой, вытянул ими савраску, свистнул, и лошадь понесла.
Телега летела, гремя и прыгая на дорожных ухабах, поднимая тучи пыли и каждый миг грозя рассыпаться. Прокоп, стоя в ней во весь рост и широко расставив ноги, нахлёстывал савраску. Закатов, едва удерживаясь на коленях на дне телеги, сбивчиво просил:
– Прокоп, милый, быстрее… Боже мой, что же там могло случиться? Она же ещё с утра была спокойна, весела… Сама выгнала меня из дому на работы! Прокоп, да гони же ты, чёрт, скорее!
– Куда скорее, барин, лошадь падёт! – не оглядываясь, цедил Прокоп. – Молись, чтоб не перевернуться нам! Ну, милая, ну, не выдай! Пошла, пошла! Небось, Владимир Павлыч, доспеем! Даст бог, всё ладом будет!
– Прокоп, ради бога, погоняй!
– Еду, барин, еду… Вон уж Болотеево видно!
Телега в вихре пыли пронеслась по улице села, давя кур и поросят; дети с истошным визгом выскакивали прямо из-под лошадиных копыт. Впереди уже показались белые столбики ворот усадьбы, и Прокоп, оскалившись и натянув вожжи, направил лошадь прямо на них. Саврасая с обезумевшими глазами ворвалась в усадьбу и у самых ступеней барского дома была немилосердно осажена. Телега с отчаянным скрипом накренилась, стала, просев на один бок. Закатов выпрыгнул из неё и взлетел по деревянным ступенькам крыльца.
В сенях полковника встретила компаньонка жены: молодая некрасивая женщина в коричневом платье, с бесцветными, убранными в гладкий узел волосами.
– Что с Полей, Амалия Казимировна? – задыхаясь, спросил Закатов.
– Я говорила, Владимир Павлович, что не надо вам нынче ехать на работы! – в ровном, чуть скрипучем голосе женщины явственно слышался польский акцент. – Мы сбились с ног в поисках вас, вся дворня носится по полям! Вы даже не изволили сказать, куда направитесь…
– Что с Полей?!. Она рожает?!
– Она родила три часа назад, – сухо сообщила компаньонка, и только сейчас Закатов почувствовал сладковатый запах крови в сенях. – И боюсь… что уже нужен священник. Видит бог, я сделала всё, что…
Не дослушав её, полковник кинулся в горницы.
Аполлинария Петровна лежала в душной, тёмной комнате, на высокой супружеской кровати, среди пропотевших перин. Она находилась уже в полузабытьи, но, когда муж, упав на колени, прижал к губам её сухую, горячую руку, она, не открывая глаз, хрипло спросила:
– Владимир, это ты? Слава богу…
– Я… Конечно, я… – Закатов старался говорить спокойно, но голос его дрожал, срывался. – Поленька, что же это такое?.. Почему ты ничего не сказала утром? Ты ведь чувствовала, знала? Поля, что мне делать, скажи! За доктором уже послано, я с тобою, бог нас не оставит… Боже, Поля, отчего столько крови?!
– Владимир, ради господа, заклинаю тебя, – не оставь Аркашеньку! – едва шевельнулись обмётанные жаром губы умирающей. – Он умный, он способный мальчик… он понимает науки, он должен быть счастлив… он должен получить всё, всё… Я виновата, я не хотела пустить его от себя, а ему давно пора в корпус… Он сможет сделать блестящую военную карьеру, в нашем роду все мужчины… Поклянись мне, поклянись мне сейчас же на образе… Поклянись, что всё сделаешь для Аркашеньки, что он… Где он? Где он?! Я хочу проститься…
– Аркадий, поди сюда… Поля, я клянусь, обещаю тебе… Перед богом истинно клянусь… Он поступит в корпус, в военную академию… В гвардию! Ты можешь быть покойна, я сделаю всё… Ничего не пожалею, последнюю рубаху с себя продам… Поля, что с тобой?! Да что же это, господи?! Прокофьевна! Юшка! Амалия Казимировна, да подите же сюда, помогите ей!!! – в отчаянии закричал Закатов, не смея отпустить руку жены, а старая нянька, давясь рыданиями, неловко тащила со стены облепленный паутиной образ. Двенадцатилетний Аркадий громко плакал, вцепившись в столбик кровати и не давая себя увести; в сенях набились дворовые. Амалия Казимировна, зло шипя, выталкивала их, громко молилась нянька, торопливо входил в горницу священник, – а тот, кто был причиной всего этого, лежал в дальней комнате совсем один, слабо попискивал в намокшей пелёнке, и никто о нём не вспоминал.
На дворе Прокоп Силин обтирал потные бока савраски. Когда из дома выбежала очередная девка, он поймал её за подол:
– Палашка, что там?
– Ко… кончилась барыня, кажись! – шёпотом выговорила Палашка. – Уж читают над ней.
– Ох ты, господи, ну вот… – Прокоп медленно перекрестился, похлопал ладонью по влажной, потемневшей шерсти своей кобылы. – Это ж надо… Стало быть, зря тебя запарили, милая. Ну, упокой господь… Жаль, добрая барыня была. – Он задрал голову к небу, нахмурился. – Ох, беда… Так как же жать-то теперь? Когда распорядятся-то?
Ответить ему было некому. Прокоп снова тяжело вздохнул и, потянув усталую савраску за узду, медленно пошёл со двора.
Полковник Закатов сдержал слово, данное покойнице. Человек увлекающийся и горячий, страстно любивший жену, которую, на смех всему уезду, взял бесприданницей из нищего рода польских дворян, он всю свою лихорадочную любовь перенёс на старшего сына Аркадия. Поместье у Закатовых было небольшое: две сотни взрослых душ, сёла Болотеево и Рассохино, три чахлые деревеньки и довольно большой лес едва покрывали убытки, крепостные работали на барщине три дня в неделю, и первое, что сделал полковник после смерти жены, – превратил эти три дня в четыре. Крепостные взвыли, несколько дней Болотеево и деревни гудели, но протестовать в открытую так никто и не решился: у вспыльчивого барина расправа была коротка. Затем Закатов продал деревню Гласовку давно зарившемуся на неё соседу и на вырученные средства нанял для сына учителей. По возрасту Аркадию уже давно пора было поступать в кадетский корпус, и за оставшиеся полгода он должен был основательно подготовиться к экзаменам. Аркадий, которого до сих пор обучала наукам сама мать, вовсе не был обрадован подобным переменам в своей жизни, но возразить отцу ему и в голову не пришло.
Полковник Закатов по натуре своей не мог и не умел отступить от уже задуманного. В его горячей голове обещание, данное покойнице, быстро обратилось в idеe-fixе, и он готов был не задумываясь отдать всё имущество – лишь бы Аркадий поступил в корпус. О младшем же сыне Закатов быстро и искренне забыл, сбросив его на руки дворни. Имение оказалось на попечении Амалии Веневицкой – бывшей институтской подруги хозяйки, взятой ею в компаньонки. Это была очень высокая и нескладная девица, державшаяся всегда прямо, как палка, с круглыми, близко посаженными «совиными» глазами и тонкими, поджатыми губами, на которых никогда даже не мелькало улыбки. Ни своей семьи, ни средств у Веневицкой не было, а некрасивая наружность не оставляла ей никакой надежды выйти замуж. Аполлинария Петровна, всецело поглощённая заботами о сыне, с радостью столкнула на услужливую подругу дела по хозяйству и передала ей огромную связку ключей и все полномочия. Полковник не возражал: для него имело значение лишь удовольствие и покой обожаемой Поленьки. А после смерти барыни Амалия начала царствовать в имении единовластно. Очень скоро дворня привыкла к тому, что барин на любой вопрос отвечает: «Спросите у Амалии Казимировны» или «Как Амалия Казимировна распорядится». Полевые работы, расчёты с крестьянами, разговоры со старостой по-прежнему находились в ведомстве хозяина, но всё, что касалось дворни, домашних расходов, прислуги, перешло под начало желтоглазой, сухой и злой польки, прозванной Упырихой.
В первые дни жизни Никиты Амалия ещё пыталась приставать с вопросами к полковнику:
«Кого вы распорядитесь приставить к мальчику? Привести кормилицу из деревенских или взять из дворовых? Какую велите няньку? Когда назначить крестины?»
Первое время Закатов даже удивлялся и молча смотрел на экономку, не понимая, о ком она говорит. Затем, однако, вспоминал, темнел лицом и быстро, сквозь зубы говорил:
«Поступайте, как считаете нужным. Кормилицу?.. Что ж, можно… возьмите, какую лучше, я в этом ничего не смыслю. Крестить? Да, пожалуй… Уж устройте это как-нибудь, сделайте милость… И проследите, чтобы Аркадий вовремя сел за немецкий! И французская грамматика непременно! И чтобы месье Грамон показал после мне учебник да счёл прочитанные страницы, я проверю!»
В конце концов и Амалия, и вся дворня поняли, что маленький барин родителю не нужен и скорее всего на свете не заживётся. Веневицкая, поразмыслив, всё же приставила к нему дворовую девчонку: рыжую, голенастую десятилетнюю Настьку, племянницу Силиных. Родители Настьки умерли от моровой язвы, а двух малолетних сестрёнок взял в свою семью дядька Прокоп. Он был не прочь забрать к себе и старшую племянницу, но Веневицкая решила, что Настька, которая в свои неполные десять лет была неплохой кружевницей и вышивальщицей, больше пригодится в барской рукодельне. С появлением на свет Никиты Настьку из рукодельни взяли. Ей было вменено в обязанность носить барчука на руках, чтоб не плакал, качать люльку по ночам, забавлять младенца в меру сил и умения и стирать за ним пелёнки. Настька выполняла всё это с усердием, успевая даже в свободное время вязать чулки или плести кружево, чем Веневицкая была весьма довольна. Кормилицу для Никиты тоже нашли, взяв из деревни здоровенную молодку Марфу. Та, рассудив, что, чем дольше она будет кормить барчука, тем дольше её не отправят обратно к мужу, бившему её смертным боем, совала Никите свою грудь до его трёх лет. После спохватились, что барчук подрос, ревущую благим матом Марфу спровадили со двора и теперь уже кормили мальчика чем придётся и когда придётся, чаще всего – щами или кашей из общего котла в людской. Настьку отправили обратно в девичью, рукодельничать, но в каждую свободную минутку она прибегала к своему маленькому барину, чтобы наспех расспросить его о житье-бытье, сунуть ягоду или яблоко, рассказать сказку или немного побегать с ним – если поблизости не было Упырихи. Если Настька, занятая делами, подолгу не появлялась, Никита сам отправлялся на её поиски: никто этому не препятствовал. Он так и вырос в людской, среди дворовой прислуги, вертясь среди вечно занятых девок, играя клубками шерсти, путая пряжу и ползая по домотканым половикам у всех под ногами.
– Ах вы, барин мой золотенький, бедный мой… – вздыхала по временам Настька, поглядывая из-за своих коклюшек за тем, как перемазанный сажей Никита сосредоточенно возится у печи с щепками и чурочками. – Никому-то вас не надобно…
Анастасия Туманова
Королева исторического романа
Крепостная девушка Устинья, внучка знахарки, не по-бабьи умна, пусть и не первая красавица. И хоть семья её – беднее некуда, но именно Устю сватает сын старосты Прокопа Силина, а брат жениха сохнет по ней. Или она и впрямь ведьма, как считают завистницы? Так или иначе, но в неурожае, голоде и прочих бедах винят именно её. И быть бы ей убитой разъярённой толпой, если бы не подоспели Силины. Однако теперь девушке грозит наказание хуже смерти – управляющая имением, перед которой она провинилась, не знает пощады. Где искать спасения, кому бить челом? Вся надежда на молодого барина Никиту Закатова – к нему и отправляются Устя и верные братья…
Анастасия Туманова
Полынь – сухие слёзы
© Туманова А., 2013
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Над Бельским уездом Смоленской губернии раскинулся душный предгрозовой вечер лета 1830 года. Воздух был тяжёлым, густым, столбики насекомых жужжали над клонящейся к земле рожью. Раскалённое солнце в дымном зареве падало за холмы, а с востока, из-за леса, поднималась сизая туча.
Помещик Владимир Закатов, полковник в отставке, высокий седеющий человек сорока пяти лет, с острым сухим лицом и ястребиными глазами, задумчиво мял сорванный колосок. За ним внимательно наблюдал Прокоп Силин – огромный, словно грубо вытесанный топором из лесной коряжины мужик. Рядом, на дороге, виднелась телега, вяло хрумкала травой саврасая кобыла.
– Так, по-твоему, Прокоп, можно начинать? – сомневаясь, спрашивал Закатов. – У Браницких ещё не жали…
– По мне, так ещё на той неделе начинать надо было, – пожал могучими плечами Прокоп. – Браницкие пусть что хотят делают, у них запашки, не в обиду вам будь сказано, на сорок десятин больше! Они и рожь упустят – не в убытке останутся. А мы?! Того гляди, ржица-то посыпется! Ещё и непогодь вон какая тащится, пронеси, господи… – Он озабоченно задрал к темнеющему небу бороду, сощурился. – А ну как градом ударит? Пора, барин, как хочешь, – пора! Прямо вот завтра!
– Что ж, тогда, возможно… – Полковник не договорил: Силин вдруг резко повернулся всем телом к дороге, на которой ещё минуту назад не было ни души. Теперь же по ней кто-то отчаянно пылил босыми ногами. Полковник с Силиным переглянулись и, не сговариваясь, зашагали навстречу.
Облако жёлтой пыли приблизилось, оглушительно чихнуло и оказалось потной, встрёпанной девкой с вытаращенными глазами. Увидев барина, она всплеснула руками и хрипло закричала, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание:
– Барин, ради бога… Ох… Аполлинарья Петровна… Охти, батюшки, не могу… Они… барыня наша, ой… У них, кажись, с утра-то началося… И худо… Ох, худо совсем… Вас по всем работам ищут… Ох, поспешайте за-ради Христа…
Лицо Закатова побледнело. Одним прыжком он оказался возле задыхающейся девки, несколько раз с силой, наотмашь, ударил её по лицу:
– Говори, мерзавка! Говори ясней, что с барыней?!
Девка взвыла с перепугу и принялась отчаянно икать. Застонав сквозь зубы от бешенства, Закатов замахнулся было снова, но в это время его с силой, без всякого почтения хлопнули по плечу.
– Поспешай, барин, залазь в телегу! – раздался суровый окрик. – Даст бог, поспеем! Да брось дурищу эту, толку-то с неё, вишь, языка лишилась!..
Прокоп Силин уже сидел на передке телеги, сосредоточенно разбирал вожжи. Опомнившийся Закатов по-молодому быстро вспрыгнул к нему. Прокоп завертел концом вожжей над головой, вытянул ими савраску, свистнул, и лошадь понесла.
Телега летела, гремя и прыгая на дорожных ухабах, поднимая тучи пыли и каждый миг грозя рассыпаться. Прокоп, стоя в ней во весь рост и широко расставив ноги, нахлёстывал савраску. Закатов, едва удерживаясь на коленях на дне телеги, сбивчиво просил:
– Прокоп, милый, быстрее… Боже мой, что же там могло случиться? Она же ещё с утра была спокойна, весела… Сама выгнала меня из дому на работы! Прокоп, да гони же ты, чёрт, скорее!
– Куда скорее, барин, лошадь падёт! – не оглядываясь, цедил Прокоп. – Молись, чтоб не перевернуться нам! Ну, милая, ну, не выдай! Пошла, пошла! Небось, Владимир Павлыч, доспеем! Даст бог, всё ладом будет!
– Прокоп, ради бога, погоняй!
– Еду, барин, еду… Вон уж Болотеево видно!
Телега в вихре пыли пронеслась по улице села, давя кур и поросят; дети с истошным визгом выскакивали прямо из-под лошадиных копыт. Впереди уже показались белые столбики ворот усадьбы, и Прокоп, оскалившись и натянув вожжи, направил лошадь прямо на них. Саврасая с обезумевшими глазами ворвалась в усадьбу и у самых ступеней барского дома была немилосердно осажена. Телега с отчаянным скрипом накренилась, стала, просев на один бок. Закатов выпрыгнул из неё и взлетел по деревянным ступенькам крыльца.
В сенях полковника встретила компаньонка жены: молодая некрасивая женщина в коричневом платье, с бесцветными, убранными в гладкий узел волосами.
– Что с Полей, Амалия Казимировна? – задыхаясь, спросил Закатов.
– Я говорила, Владимир Павлович, что не надо вам нынче ехать на работы! – в ровном, чуть скрипучем голосе женщины явственно слышался польский акцент. – Мы сбились с ног в поисках вас, вся дворня носится по полям! Вы даже не изволили сказать, куда направитесь…
– Что с Полей?!. Она рожает?!
– Она родила три часа назад, – сухо сообщила компаньонка, и только сейчас Закатов почувствовал сладковатый запах крови в сенях. – И боюсь… что уже нужен священник. Видит бог, я сделала всё, что…
Не дослушав её, полковник кинулся в горницы.
Аполлинария Петровна лежала в душной, тёмной комнате, на высокой супружеской кровати, среди пропотевших перин. Она находилась уже в полузабытьи, но, когда муж, упав на колени, прижал к губам её сухую, горячую руку, она, не открывая глаз, хрипло спросила:
– Владимир, это ты? Слава богу…
– Я… Конечно, я… – Закатов старался говорить спокойно, но голос его дрожал, срывался. – Поленька, что же это такое?.. Почему ты ничего не сказала утром? Ты ведь чувствовала, знала? Поля, что мне делать, скажи! За доктором уже послано, я с тобою, бог нас не оставит… Боже, Поля, отчего столько крови?!
– Владимир, ради господа, заклинаю тебя, – не оставь Аркашеньку! – едва шевельнулись обмётанные жаром губы умирающей. – Он умный, он способный мальчик… он понимает науки, он должен быть счастлив… он должен получить всё, всё… Я виновата, я не хотела пустить его от себя, а ему давно пора в корпус… Он сможет сделать блестящую военную карьеру, в нашем роду все мужчины… Поклянись мне, поклянись мне сейчас же на образе… Поклянись, что всё сделаешь для Аркашеньки, что он… Где он? Где он?! Я хочу проститься…
– Аркадий, поди сюда… Поля, я клянусь, обещаю тебе… Перед богом истинно клянусь… Он поступит в корпус, в военную академию… В гвардию! Ты можешь быть покойна, я сделаю всё… Ничего не пожалею, последнюю рубаху с себя продам… Поля, что с тобой?! Да что же это, господи?! Прокофьевна! Юшка! Амалия Казимировна, да подите же сюда, помогите ей!!! – в отчаянии закричал Закатов, не смея отпустить руку жены, а старая нянька, давясь рыданиями, неловко тащила со стены облепленный паутиной образ. Двенадцатилетний Аркадий громко плакал, вцепившись в столбик кровати и не давая себя увести; в сенях набились дворовые. Амалия Казимировна, зло шипя, выталкивала их, громко молилась нянька, торопливо входил в горницу священник, – а тот, кто был причиной всего этого, лежал в дальней комнате совсем один, слабо попискивал в намокшей пелёнке, и никто о нём не вспоминал.
На дворе Прокоп Силин обтирал потные бока савраски. Когда из дома выбежала очередная девка, он поймал её за подол:
– Палашка, что там?
– Ко… кончилась барыня, кажись! – шёпотом выговорила Палашка. – Уж читают над ней.
– Ох ты, господи, ну вот… – Прокоп медленно перекрестился, похлопал ладонью по влажной, потемневшей шерсти своей кобылы. – Это ж надо… Стало быть, зря тебя запарили, милая. Ну, упокой господь… Жаль, добрая барыня была. – Он задрал голову к небу, нахмурился. – Ох, беда… Так как же жать-то теперь? Когда распорядятся-то?
Ответить ему было некому. Прокоп снова тяжело вздохнул и, потянув усталую савраску за узду, медленно пошёл со двора.
Полковник Закатов сдержал слово, данное покойнице. Человек увлекающийся и горячий, страстно любивший жену, которую, на смех всему уезду, взял бесприданницей из нищего рода польских дворян, он всю свою лихорадочную любовь перенёс на старшего сына Аркадия. Поместье у Закатовых было небольшое: две сотни взрослых душ, сёла Болотеево и Рассохино, три чахлые деревеньки и довольно большой лес едва покрывали убытки, крепостные работали на барщине три дня в неделю, и первое, что сделал полковник после смерти жены, – превратил эти три дня в четыре. Крепостные взвыли, несколько дней Болотеево и деревни гудели, но протестовать в открытую так никто и не решился: у вспыльчивого барина расправа была коротка. Затем Закатов продал деревню Гласовку давно зарившемуся на неё соседу и на вырученные средства нанял для сына учителей. По возрасту Аркадию уже давно пора было поступать в кадетский корпус, и за оставшиеся полгода он должен был основательно подготовиться к экзаменам. Аркадий, которого до сих пор обучала наукам сама мать, вовсе не был обрадован подобным переменам в своей жизни, но возразить отцу ему и в голову не пришло.
Полковник Закатов по натуре своей не мог и не умел отступить от уже задуманного. В его горячей голове обещание, данное покойнице, быстро обратилось в idеe-fixе, и он готов был не задумываясь отдать всё имущество – лишь бы Аркадий поступил в корпус. О младшем же сыне Закатов быстро и искренне забыл, сбросив его на руки дворни. Имение оказалось на попечении Амалии Веневицкой – бывшей институтской подруги хозяйки, взятой ею в компаньонки. Это была очень высокая и нескладная девица, державшаяся всегда прямо, как палка, с круглыми, близко посаженными «совиными» глазами и тонкими, поджатыми губами, на которых никогда даже не мелькало улыбки. Ни своей семьи, ни средств у Веневицкой не было, а некрасивая наружность не оставляла ей никакой надежды выйти замуж. Аполлинария Петровна, всецело поглощённая заботами о сыне, с радостью столкнула на услужливую подругу дела по хозяйству и передала ей огромную связку ключей и все полномочия. Полковник не возражал: для него имело значение лишь удовольствие и покой обожаемой Поленьки. А после смерти барыни Амалия начала царствовать в имении единовластно. Очень скоро дворня привыкла к тому, что барин на любой вопрос отвечает: «Спросите у Амалии Казимировны» или «Как Амалия Казимировна распорядится». Полевые работы, расчёты с крестьянами, разговоры со старостой по-прежнему находились в ведомстве хозяина, но всё, что касалось дворни, домашних расходов, прислуги, перешло под начало желтоглазой, сухой и злой польки, прозванной Упырихой.
В первые дни жизни Никиты Амалия ещё пыталась приставать с вопросами к полковнику:
«Кого вы распорядитесь приставить к мальчику? Привести кормилицу из деревенских или взять из дворовых? Какую велите няньку? Когда назначить крестины?»
Первое время Закатов даже удивлялся и молча смотрел на экономку, не понимая, о ком она говорит. Затем, однако, вспоминал, темнел лицом и быстро, сквозь зубы говорил:
«Поступайте, как считаете нужным. Кормилицу?.. Что ж, можно… возьмите, какую лучше, я в этом ничего не смыслю. Крестить? Да, пожалуй… Уж устройте это как-нибудь, сделайте милость… И проследите, чтобы Аркадий вовремя сел за немецкий! И французская грамматика непременно! И чтобы месье Грамон показал после мне учебник да счёл прочитанные страницы, я проверю!»
В конце концов и Амалия, и вся дворня поняли, что маленький барин родителю не нужен и скорее всего на свете не заживётся. Веневицкая, поразмыслив, всё же приставила к нему дворовую девчонку: рыжую, голенастую десятилетнюю Настьку, племянницу Силиных. Родители Настьки умерли от моровой язвы, а двух малолетних сестрёнок взял в свою семью дядька Прокоп. Он был не прочь забрать к себе и старшую племянницу, но Веневицкая решила, что Настька, которая в свои неполные десять лет была неплохой кружевницей и вышивальщицей, больше пригодится в барской рукодельне. С появлением на свет Никиты Настьку из рукодельни взяли. Ей было вменено в обязанность носить барчука на руках, чтоб не плакал, качать люльку по ночам, забавлять младенца в меру сил и умения и стирать за ним пелёнки. Настька выполняла всё это с усердием, успевая даже в свободное время вязать чулки или плести кружево, чем Веневицкая была весьма довольна. Кормилицу для Никиты тоже нашли, взяв из деревни здоровенную молодку Марфу. Та, рассудив, что, чем дольше она будет кормить барчука, тем дольше её не отправят обратно к мужу, бившему её смертным боем, совала Никите свою грудь до его трёх лет. После спохватились, что барчук подрос, ревущую благим матом Марфу спровадили со двора и теперь уже кормили мальчика чем придётся и когда придётся, чаще всего – щами или кашей из общего котла в людской. Настьку отправили обратно в девичью, рукодельничать, но в каждую свободную минутку она прибегала к своему маленькому барину, чтобы наспех расспросить его о житье-бытье, сунуть ягоду или яблоко, рассказать сказку или немного побегать с ним – если поблизости не было Упырихи. Если Настька, занятая делами, подолгу не появлялась, Никита сам отправлялся на её поиски: никто этому не препятствовал. Он так и вырос в людской, среди дворовой прислуги, вертясь среди вечно занятых девок, играя клубками шерсти, путая пряжу и ползая по домотканым половикам у всех под ногами.
– Ах вы, барин мой золотенький, бедный мой… – вздыхала по временам Настька, поглядывая из-за своих коклюшек за тем, как перемазанный сажей Никита сосредоточенно возится у печи с щепками и чурочками. – Никому-то вас не надобно…