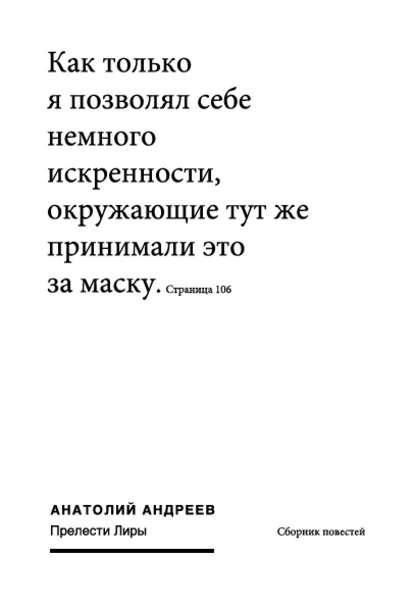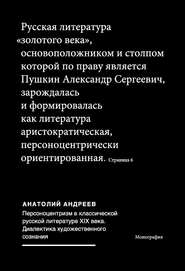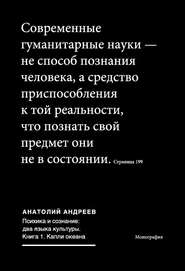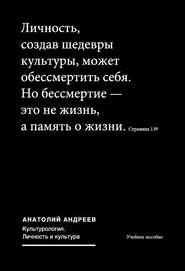По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прелести Лиры (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нет, герои по-прежнему изъясняются точнее и оригинальнее, чем я от них ожидал: говорят, говорят (пока что во мне – но уже от своего имени), чтобы скрыть от себя правду и обнажить её для читателя. Любо дорого. Я сам с удовольствием слушаю их.
Тогда в чём дело?
Проще всего, не задумываясь, произнести – «не знаю». И пожать-повести плечиком (о, этот ненавистный свободный жест сервильного, угодливого Еврипита!). Не исключено, к сожалению, что я очень даже знаю, в чём дело.
У меня иссяк адреналин, вот и пропали эмоции. Большой соблазн списать кризис на возраст. Пятьдесят лет, что вы хотите. Уровень тестостерона снижается, появляется адреналиновый голод. Так говорит Лида, моя подруга, очень квалифицированный врач, которая объясняет все проблемы самочувствия человека изменением гормонального баланса. Это удобно и понятно. Современно, опять же. Может, завтра взлетит мой тестостерон (хотя бы на время), и пьесы польются рекой?
Сам к себе я более безжалостен, что непосредственно сказывается на бедных моих героях. Мне кажется, я потерял мотивацию. Не амбиции – их никогда не было у меня слишком много, и тут мне нечего особенно терять, – именно мотивации, которые всегда накатывали на меня океанской волной с перехлёстом, а я умудрялся зависать на гребне волны (солёная пена слепит глаза), играя со стихией в свою игру. Какая мотивация так будоражила мне кровь?
Познавать человека: мне казалось, в этом судьбоносном векторе заключён вселенский позитив и бесконечный ресурс. Я, признаться, был спокоен за свою мотивацию, и проблемы с мотивацией у других объяснял одним: они не на то поставили, они впали в амбицию. Не угадали. Не поняли. Не познали.
Зазор между мотивацией и амбицией превращался в некую экзистенциальную величину, которая выражала масштаб моей личности. Мотивация – это характеристика моих отношений с истиной; амбиции – это область моих запутанных отношений с социумом, это общественная мотивация. Меня ценили за амбиции, величина которых прямо пропорционально снижала уровень мотиваций, за которые я сам ценил себя.
Непонятно? Ну, не знаю…
И вдруг – именно вдруг, чёрт побери, в один прекрасный день – именно в один прекрасный день, будь он неладен, я осознал: моим, неуютно живущим на кончике пера, героям («сколько чертей может поместиться на конце иглы»? Забавно…) нечего сказать мне. Они замолчали вовсе не красноречиво, не содержательно, а – обречённо. Возможно, это случилось как раз в кабинете у раболепствующего Еврипита. Раньше ими двигала вера в то, что человеческий талант рано или поздно будет востребован, ибо таков закон мироздания, основа мироустройства. Sic.
А теперь настал тот самый еврипитов день, когда верить в человека становится формой скудоумия, формой неуважения к личности, к себе. Нормальный, сильный, умный человек – личность – должен потерять мотивацию, а если он её не теряет, с ним что-то не так. Равновесие между мотивацией и амбицией рухнуло на моих глазах. Амбиции остались только у тех людей, кто ни во что не верит, кто ни в грош не ставит себя (ибо деньги для него – это святое), кто каждую свою фразу начинает со слов «ну, не знаю».
Где-то в недрах этой логики зарождался вопрос, который досаждал мне, мучил меня (кажется так: мучил, острым гвоздиком в разношенном удобном сапожке) и звучал как приговор моим героям: где взять мотивацию с упоением говорить об отсутствии мотиваций?
Быть, не быть – это детский сад. Где взять энтузиазм испугаться «не быть»?
Отсутствие мотиваций, так и не ставшее одной маниакальной амбицией, – это новая, невиданная ещё мной маска?
Я ей верю или нет?
Так или иначе, герои моих пьес то ли из уважения, то ли из презрения к их автору замолчали. Глубоко задумались.
«Главные слова для любимой женщины» я написал давно, несколько лет тому назад, а принёс пьесу Еврипиту только сейчас в расчёте на то, что во мне проснутся нереализованные амбиции, которые всколыхнут мотивации.
Вместо этого на голову мою мраморной крошкой обрушился тотальный капут, окончательная ясность снизошла на меня осенним туманом и придушила – словно сговорившаяся чёртова дюжина чертей накинула мне на шею чёрный пластиковый мешок и многоруко и ловко прихватила прочной шелковой удавкой-бабочкой. Мотивации ушли, а амбиции так и не появились. Личность во мне сдулась, а человек со своими простенькими потребностями так не заговорил в полный голос. Я оказался человеком с потенциалом zero. Человеком, в котором не развилось ничего человеческого, а сверхчеловеческое – предательски исчезло.
Говорю же: мне даже в голову не пришло опробовать новый сюжет.
Все обещало скорую и, вопреки ожиданиям, не особенно мучительную кончину. Туда и дорога?
Ну, не знаю…
3
Мне всегда были присущи целых две особенности.
Во-первых, я очень сомневаюсь в том, что способность верить, помимо того, что она мешает человеку становиться личностью, делает его лучше.
Не делает. Я просто знаю это.
Во-вторых, я всегда немного завидовал людям, которые способны верить в то, чего в жизни не бывает и быть не может (хотя, поясню, никогда не уважал таких людей, считая веру в иллюзии формой идиотизма).
Я, наверное, верю в разум, и у меня нет оснований сомневаться в том, что разум, источник мотиваций, – это химера. Нет, не химера, там-сям следы разума в жизни человека обнаруживают себя. Я и сам пытался наследить, и погуще.
Я, наверное, перестал верить в то, что разум может восторжествовать.
Но это ведь так неразумно – перестать верить в разум (один из моих героев когда-то выразился в подобном духе)!
А я и не утверждаю, что это разумно. Просто у меня как у личности культ разума, возможно, сохранился, а вот эмоции, простые человеческие эмоции, питающие этот высокий культ, – куда-то исчезли. Cogito ergo sum, безусловно, коллеги; однако удовольствие от жизни куда-то пропало. Личность и человек во мне перестали понимать друг друга. Равновесие между мотивацией и амбицией рухнуло.
Я произношу какие-то слова, которые для таких, как Еврипит, ничего не значат; они ценят только те слова, которые оплачиваются баблом-златом, здесь и сейчас. А для меня в моих словах заключена целая жизнь. Это так интимно. Это ли не странно?
Еврипит, лакей коллективного бессознательного, поправляет мне на шее криво сидящую бабочку: «Это несовременно»…
И ведь он по-своему, по-лягушачьи, прав.
А я устал бунтовать. Последняя доступная мне форма сопротивления – потеря мотиваций. Во имя человека.
Ум с сердцем не в ладу – это ещё бы куда ни шло, это нормально, вполне героически: ум трезво разоблачает, а сердце не верит очевидному, верит в лучшее, ибо видит только то, что желает видеть; у меня же всё поменялось местами: ум умоляет верить, ибо при любом разумном раскладе ничего лучше любви и познания в жизни не найти, а сердце разуверилось. Оно просто перестало испытывать чувства.
И я ничего не могу с этим поделать. Я просто умираю при жизни. И это не смешно (хотя без улыбки говорить об этом невозможно, меня это смешит до истерики).
Когда я подцепил эту странную хворобу – отсутствие мотиваций и, как следствие, эмоций (при безусловной логической мотивированности на пропавшую психологическую мотивацию)?
Точка отсчёта в моей судьбе, мне кажется, связана не с возрастом (извини, Лидия, и ты, уважаемая эндокринология), а с новым этапом жизни. Не могу сказать, что в один прекрасный день я узнал нечто новое, что моментально шокировало меня; всё случилось иначе: в какой-то момент я по-новому отреагировал на то, о чём догадывался всегда.
Долгие годы, собственно, всю сознательную жизнь, я был прилежным (потому что стремился быть образцовым) сыном, отцом, мужем и братом. Неплохим гражданином и членом общества. Со стороны могло казаться, что я накрепко, как все, мотивирован амбициями.
К пятидесяти годам выяснилось: жена мне – чужой человек, с которым меня связывали привычка, чувство долга, а также панический страх приближающейся старости (с её стороны) и перемен (с моей); отца я уважал за то, что он был моим отцом (это навсегда, ещё с родоплеменных времён) и за его возраст, но совершенно не уважал как человека, – тяжёлого, косного, изуродованного изрядной долей присущего ему самодурства; сестра, как я понял, не любила меня, точнее, была ко мне равнодушна, а я испытывал по отношению к ней какие-то смутные родственные чувства, которые всегда несколько идеализировал; что касается сына, то мы с ним в данный момент не понимали друг друга, не очень-то нуждались друг в друге, боялись в этом признаться себе и не знали, как себя вести; вроде бы, безо всякой вразумительной причины, отношения наши были отравлены невольной ложью.
Родственные отношения в очень слабой степени стали личностными отношениями.
Моё близкое (оно же далёкое) окружение – приятели, коллеги, знакомые, знакомые знакомых (друзья в моей жизни то ли так и не появились, то ли куда-то исчезли)… Незаметно все эти, различаемые мной, добрые люди стали жить по каким-то иным правилам, которые превращали меня в отдельно живущее существо, в особь. Не скажешь, что они дружили против меня; но они сплачивались, а я выпадал из круга, подчиняясь безличным человеческим законам, позволяющим обществу куда-то эволюционировать.
Настал день, когда я вынужден был признаться себе в том, что я, наконец, одинок, – одинок в самом точном и грустном смысле этого слова.
всегдаВдруг, в одночасье, я оказался человеком без амбиций (убогим, инвалидом) и перестал быть хорошим гражданином; общество (я это чувствовал) отвернулось от меня, перестало мною интересоваться. Я только сказал – а дальше всё происходило уже помимо моей воли, в соответствии с неким законом гор, морей и океанов: камнепады и приливы неизбежно случились просто потому, что они должны были случиться.
Что я сделал? Что натворил я?
Уточню с печалью: какого рода преступление я совершил (а то, что в моём случае речь шла о преступлении как-то не подлежало сомнению, даже не обсуждалось)?
Это было классическим гласом вопиющего в пустыне. Вот уверен: точный перевод соответствующего места из Библии будет таким: что я сделал всем вам? А? Что, мне уже и сказать нельзя?
Скорее всего, ход событий ещё и можно было изменить, но я отчего-то наотрез отказался взять свои правдивые слова назад. Приливам и отливам я противопоставил эфемерное право личности. До сих пор не могу сказать – глупо я поступил или нет. Я недооценил силу слова, это так, грешен; но значило ли это, что я поступил неправильно?
Я ушёл из дому – заноза покинула тело – и всему организму, целой ячейке общества сразу стало как-то легче. Я смог, наконец, посмотреть в глаза сыну (хотя, казалось бы, должен был прятать свои бесстыжие очи), а все остальные при встрече со мной опускали глаза, словно разговаривали с душевнобольным. Возможно, им казалось, что я – блудный сын-отец, весьма несовременный клоун, который рано или поздно возвратится в отчий дом с покаянием (куда же я денусь? угла-то ведь своего нет, а долго по квартирам не намаешься).
Приползёт. Как миленький.
То-то бы потешили своё великодушие – всю жизнь доедали бы меня без соли, а я бы ещё им спасибо за это говорил. Какова притча?
Другие электронные книги автора Анатолий Николаевич Андреев
Девять




 0
0