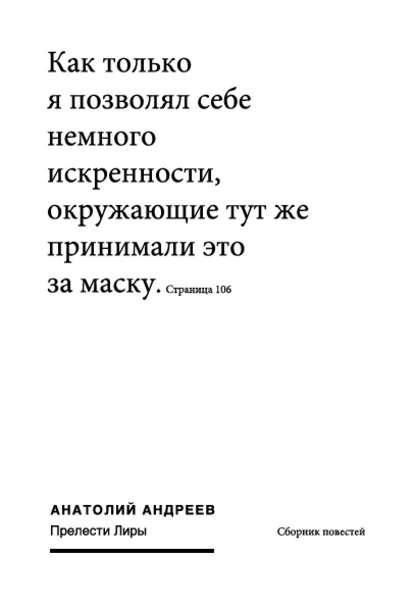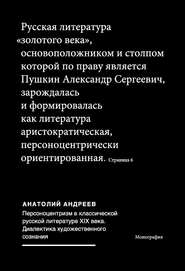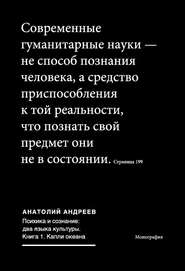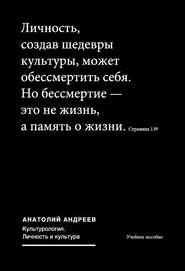По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прелести Лиры (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
возрождает во мне
седой путь
к беззвучным краскам воспоминаний
соленой росой.
И я,
играя адажио растраченных лет,
в усталых улицах века
на лодке бумажной
в поиске Человека
в тайну ночных высот плыву,
призрачные сомнения храня.
В усталых улицах века
там, где разум заблудился,
напрасно в поиск стремился…
Все пусто.
Нет
ни весны,
ни утра,
ни рая.
Только слова,
тени сна.
Время потеряло меня.
Над ложью бесплодных ночей
на лодке бумажной
руками возвращения
бужу Солнце
и
на холсте Памяти
рисую повторный день,
и бесшумно
в нежный путь стремлюсь я,
прозрачные сны храня[1 - Стихотворение принадлежит Зартошту Атолаахи, персидскому поэту, пишущему по-русски.].
Так говорил Ахура, мой славный друг, поэт.
7
Если бы я не описывал жизненную историю, а сочинял бы, скажем, реалистический роман, подражающий жизни, я бы непременно придумал что-нибудь такое, чтобы моему герою и на работе жилось не слишком сладко. Я бы обязательно усложнил ему жизнь. Я бы сужал и сужал круг, неумолимо сокращал жизненное пространство, загоняя героя в логово одиночества. Я бы заставил его завыть серым волком. В таком повороте сюжета присутствует логика жизни.
А тут и придумывать ничего не надо: я прихожу на работу, в издательство, а мне говорят:
«Ты свободен!
Как птица в полёте!
Можешь выть волком».
Иными словами, я уволен. По собственному желанию, разумеется. Как вариант директор, ас своего дела, предлагает мне «бессрочный неоплачиваемый отпуск». Подчёркивает свою заинтересованность во мне, бесценном специалисте, который временно оказался никому не нужен. Но я всегда предпочитаю определённость: уволен так уволен. Мировой финансовый кризис подкосил и наше книжное издательство «А 4», которое позволяло себе издавать нечто не совсем коммерческое – стихи мечтателя Ахура, например, или монографии и учебники Доброхотова, а также прочую «нетленку».
Вопрос продавать или не продавать машину отпал сам собой: я не мог позволить себе роскошь содержать машину, нигде не работая. А кушать хотелось. Пищу для тела бренного тоже никто не отменял.
Покупатель подвернулся сам собой. Им оказался человек весьма достойный, уверенный в моей аккуратности и добропорядочности, а именно: Александр Бонифатьевич. Не обманет. Не предаст. Не обжулит. Заставил, правда, сбросить несколько сотен с первоначальной цены – так ведь рынок и кризис не он выдумал. Почтенный человек.
И я в полной мере ощутил на своей шкуре силу парадокса: только лишившись работы, перестав зарабатывать деньги, я в кои-то веки разжился златом, держал в руках своих кругленькую сумму в несколько тысяч долларов. Говорят (сошлюсь, в частности, на всеведущего Александра Бонифатьевича), всего несколько еврейских, глубоко религиозных, семей в Америке контролируют печатный станок, который и штампует доллар. Я не испытывал к ним ни зависти, ни классовой или какой-либо иной ненависти; напротив, я был почти счастлив, и даже благодарен тем семьям, и даже восхищён их семейным инстинктом. Я был готов послать им телеграмму: мол, ваши условные единицы принесли мне, лично мне, Олегу Ивановичу такому-то, несколько безусловно счастливых минут. Печатайте и дальше, дай бог (нет, Бог) здоровья вашему печатному станку (бог с ним с нашим, с издательским). А также вам и вашим близким. Скорее всего, «Вам» и «Ваши» я везде писал бы с заглавной буквы. От щедрот душевных. С уважением.
Может, я не на то потратил жизнь? Может, стоило повнимательнее отнестись к баблу? Может, не той печатью меня промаркировали при рождении?
Всё это риторические вопросы, как сказал бы Александр Бонифатьевич. А уж он-то знает толк в этих «вечных» вопросах (см. его нетленные монографии – нетленку, как он, не чуждый самоиронии, любит выражаться).
Я купил сыну компьютер, какой-то навороченный ноутбук, купил себе угловой диван. У меня не было холодильника, телевизора и спального места. Я решил начать с углового дивана. Чтобы вечерами уютно волком выть в глухом углу?
Ещё часть денег я передал отцу: ему предстояла недешёвая операция по удалению катаракты. Неужели я, сын своего отца, к старости ещё и ослепну?
Меня это не пугает: я не очень верю в собственную старость.
8
– Понимаешь, папа… Всё-таки я остаюсь при своём мнении. Женятся они дураки. А если ты женился от большого ума, зачем-то родил сына, будь добр тащить свой крест до конца.
– Ты считаешь, что я предал маму и переложил свой крест на тебя?
– Может быть, не так грубо, но что-то вроде того.
– А не кажется ли тебе, что, оставшись при ней исполнителем её желаний, глупейшей воли ея, я предам самого себя, тебя, всё на свете? Нельзя же сознательно становиться слугой глупости, рабом женского бессознательного. Нельзя же смотреть на жизнь так ветхозаветно и так… обречённо.
– Не знаю. Для меня это просто слова. Пустые слова. А маму мне жалко.
Ещё лет пять тому назад я бы непременно полемически воскликнул: «А меня тебе не жалко, Никита? Почему, чёрт возьми, меня никто никогда не жалеет? Никто даже мысли не допускает, что меня тоже можно пожалеть. Я бы желал знать: почему? Почему тест на человечность непременно включает в себя пункт – чёрным по белому – отсутствие жалости ко мне, Олегу Гришину? Ты думаешь, мне не жалко маму? Не жалко тебя, и даже себя? Тут не в жалости дело; тут проблема в другом: что делать, если клетки мозга не отмирают? А, сын?»
Но сейчас мне это даже в голову не пришло. Мы меняемся постоянно и достаточно быстро, обновляемся, так сказать, на клеточном уровне. Даже за собой не успеваешь уследить, не можешь разобраться, что к чему, где уже думать о других. Я думал одно, а сказал почему-то другое:
– Мы же в ХХІ веке живём, а договариваться друг с другом и понимать один другого так и не научились. Даже попыток не делаем. Сразу – обиды и проклятия.
– Я не силён в истории. ХХІ век – это ещё до эпохи Интернета или уже после?
Сын мой, я уверен, не шутил.
– ХХІ век – это сейчас, – в тон ему ответил я.
– Мне это ни о чём не говорит. Именно сейчас люди живут в разных эпохах. С теми, кто живёт в эпоху Интернета, я договариваюсь в течение трёх секунд. Мы понимаем друг друга без слов. В эпоху Интернета люди не женятся, не рожают детей и, как следствие, не бросают жён и детей. Для нас семья состоит из одного человека: из себя, нелюбимого. Как мы размножаемся? Как придётся. Мы не делаем из этого проблемы. Почему, ты думаешь, нам так любезен гомосексуализм? Мы стараемся избегать будущего. По крайней мере, не продлять его в собственных детях. В эту пресную, но предсказуемую, эпоху люди работают, как черти, зарабатывают доллары. Иногда отдыхают. Тоже, как черти. Чтобы так работать и отдыхать – надо много, очень много долларов. Доллар – это наше знамя, религия и… В общем, это член семьи. Чувства для нас, людей действительно современных, – большая роскошь. Познавать себя – это даже не дьявольское искушение. Всё куда проще: это дурной тон. Познавать себя – неприлично. Быть умным – глупо. Мы не умеем любить, поэтому приносим минимум зла. С теми, кто живёт до эпохи Интернета, мы разговариваем на разных языках. Для них «трава» – это экологически чистая зона, не асфальт; для нас – банальная марихуана, которая приобретается за доллары и становится пищей для нашего ума. Для них булочка – это вкусная выпечка, а для нас – один из способов потребления гашиша. Эти благородные доисторические люди сначала женятся, потом заводят малышей, потом начинают разбираться в себе и, наконец, приходят к выводу, что они глубоко ошибались. И всё это только для того, чтобы жениться в очередной раз – чтобы совершить ещё более катастрофическую ошибку. Да вы в сказке живёте, пипл. К тебе с моей стороны, в сущности, только одна претензия: зачем надо было рожать меня? Что мне делать в этом мире?
Передо мной стоял мой сын, генно-модифицированный продукт, мутант, практически, в котором я с трудом узнавал себя. В нём не было даже признаков благородной ярости и злости – пороков, которые я презирал в себе.
Начинался конец лета. Стартовало оно чёрной неделей и заканчивалось неделей пречёрной. Ночи становились всё длиннее и длиннее. Дни, соответственно, укорачивались. Движение какое-то, положим, было; но было ли позитивное развитие в благословенную эпоху Всемирной Паутины, которая оплела планету на неопределённое время?
9
Полное одиночество, когда некому подать стакан воды, наступило гораздо раньше старости. Как я и предполагал.
И не так уж это и страшно. Скорее, даже забавно. Лежишь себе в своём углу на новом просторном диване, губы сохнут, кухня рядом, там чайник (китайский, жестяной) на плите, а в нём – кипячёная вода. Много воды. А вот сил подняться и налить себе стакан, другой, третий просто нет. А почему их нет?
седой путь
к беззвучным краскам воспоминаний
соленой росой.
И я,
играя адажио растраченных лет,
в усталых улицах века
на лодке бумажной
в поиске Человека
в тайну ночных высот плыву,
призрачные сомнения храня.
В усталых улицах века
там, где разум заблудился,
напрасно в поиск стремился…
Все пусто.
Нет
ни весны,
ни утра,
ни рая.
Только слова,
тени сна.
Время потеряло меня.
Над ложью бесплодных ночей
на лодке бумажной
руками возвращения
бужу Солнце
и
на холсте Памяти
рисую повторный день,
и бесшумно
в нежный путь стремлюсь я,
прозрачные сны храня[1 - Стихотворение принадлежит Зартошту Атолаахи, персидскому поэту, пишущему по-русски.].
Так говорил Ахура, мой славный друг, поэт.
7
Если бы я не описывал жизненную историю, а сочинял бы, скажем, реалистический роман, подражающий жизни, я бы непременно придумал что-нибудь такое, чтобы моему герою и на работе жилось не слишком сладко. Я бы обязательно усложнил ему жизнь. Я бы сужал и сужал круг, неумолимо сокращал жизненное пространство, загоняя героя в логово одиночества. Я бы заставил его завыть серым волком. В таком повороте сюжета присутствует логика жизни.
А тут и придумывать ничего не надо: я прихожу на работу, в издательство, а мне говорят:
«Ты свободен!
Как птица в полёте!
Можешь выть волком».
Иными словами, я уволен. По собственному желанию, разумеется. Как вариант директор, ас своего дела, предлагает мне «бессрочный неоплачиваемый отпуск». Подчёркивает свою заинтересованность во мне, бесценном специалисте, который временно оказался никому не нужен. Но я всегда предпочитаю определённость: уволен так уволен. Мировой финансовый кризис подкосил и наше книжное издательство «А 4», которое позволяло себе издавать нечто не совсем коммерческое – стихи мечтателя Ахура, например, или монографии и учебники Доброхотова, а также прочую «нетленку».
Вопрос продавать или не продавать машину отпал сам собой: я не мог позволить себе роскошь содержать машину, нигде не работая. А кушать хотелось. Пищу для тела бренного тоже никто не отменял.
Покупатель подвернулся сам собой. Им оказался человек весьма достойный, уверенный в моей аккуратности и добропорядочности, а именно: Александр Бонифатьевич. Не обманет. Не предаст. Не обжулит. Заставил, правда, сбросить несколько сотен с первоначальной цены – так ведь рынок и кризис не он выдумал. Почтенный человек.
И я в полной мере ощутил на своей шкуре силу парадокса: только лишившись работы, перестав зарабатывать деньги, я в кои-то веки разжился златом, держал в руках своих кругленькую сумму в несколько тысяч долларов. Говорят (сошлюсь, в частности, на всеведущего Александра Бонифатьевича), всего несколько еврейских, глубоко религиозных, семей в Америке контролируют печатный станок, который и штампует доллар. Я не испытывал к ним ни зависти, ни классовой или какой-либо иной ненависти; напротив, я был почти счастлив, и даже благодарен тем семьям, и даже восхищён их семейным инстинктом. Я был готов послать им телеграмму: мол, ваши условные единицы принесли мне, лично мне, Олегу Ивановичу такому-то, несколько безусловно счастливых минут. Печатайте и дальше, дай бог (нет, Бог) здоровья вашему печатному станку (бог с ним с нашим, с издательским). А также вам и вашим близким. Скорее всего, «Вам» и «Ваши» я везде писал бы с заглавной буквы. От щедрот душевных. С уважением.
Может, я не на то потратил жизнь? Может, стоило повнимательнее отнестись к баблу? Может, не той печатью меня промаркировали при рождении?
Всё это риторические вопросы, как сказал бы Александр Бонифатьевич. А уж он-то знает толк в этих «вечных» вопросах (см. его нетленные монографии – нетленку, как он, не чуждый самоиронии, любит выражаться).
Я купил сыну компьютер, какой-то навороченный ноутбук, купил себе угловой диван. У меня не было холодильника, телевизора и спального места. Я решил начать с углового дивана. Чтобы вечерами уютно волком выть в глухом углу?
Ещё часть денег я передал отцу: ему предстояла недешёвая операция по удалению катаракты. Неужели я, сын своего отца, к старости ещё и ослепну?
Меня это не пугает: я не очень верю в собственную старость.
8
– Понимаешь, папа… Всё-таки я остаюсь при своём мнении. Женятся они дураки. А если ты женился от большого ума, зачем-то родил сына, будь добр тащить свой крест до конца.
– Ты считаешь, что я предал маму и переложил свой крест на тебя?
– Может быть, не так грубо, но что-то вроде того.
– А не кажется ли тебе, что, оставшись при ней исполнителем её желаний, глупейшей воли ея, я предам самого себя, тебя, всё на свете? Нельзя же сознательно становиться слугой глупости, рабом женского бессознательного. Нельзя же смотреть на жизнь так ветхозаветно и так… обречённо.
– Не знаю. Для меня это просто слова. Пустые слова. А маму мне жалко.
Ещё лет пять тому назад я бы непременно полемически воскликнул: «А меня тебе не жалко, Никита? Почему, чёрт возьми, меня никто никогда не жалеет? Никто даже мысли не допускает, что меня тоже можно пожалеть. Я бы желал знать: почему? Почему тест на человечность непременно включает в себя пункт – чёрным по белому – отсутствие жалости ко мне, Олегу Гришину? Ты думаешь, мне не жалко маму? Не жалко тебя, и даже себя? Тут не в жалости дело; тут проблема в другом: что делать, если клетки мозга не отмирают? А, сын?»
Но сейчас мне это даже в голову не пришло. Мы меняемся постоянно и достаточно быстро, обновляемся, так сказать, на клеточном уровне. Даже за собой не успеваешь уследить, не можешь разобраться, что к чему, где уже думать о других. Я думал одно, а сказал почему-то другое:
– Мы же в ХХІ веке живём, а договариваться друг с другом и понимать один другого так и не научились. Даже попыток не делаем. Сразу – обиды и проклятия.
– Я не силён в истории. ХХІ век – это ещё до эпохи Интернета или уже после?
Сын мой, я уверен, не шутил.
– ХХІ век – это сейчас, – в тон ему ответил я.
– Мне это ни о чём не говорит. Именно сейчас люди живут в разных эпохах. С теми, кто живёт в эпоху Интернета, я договариваюсь в течение трёх секунд. Мы понимаем друг друга без слов. В эпоху Интернета люди не женятся, не рожают детей и, как следствие, не бросают жён и детей. Для нас семья состоит из одного человека: из себя, нелюбимого. Как мы размножаемся? Как придётся. Мы не делаем из этого проблемы. Почему, ты думаешь, нам так любезен гомосексуализм? Мы стараемся избегать будущего. По крайней мере, не продлять его в собственных детях. В эту пресную, но предсказуемую, эпоху люди работают, как черти, зарабатывают доллары. Иногда отдыхают. Тоже, как черти. Чтобы так работать и отдыхать – надо много, очень много долларов. Доллар – это наше знамя, религия и… В общем, это член семьи. Чувства для нас, людей действительно современных, – большая роскошь. Познавать себя – это даже не дьявольское искушение. Всё куда проще: это дурной тон. Познавать себя – неприлично. Быть умным – глупо. Мы не умеем любить, поэтому приносим минимум зла. С теми, кто живёт до эпохи Интернета, мы разговариваем на разных языках. Для них «трава» – это экологически чистая зона, не асфальт; для нас – банальная марихуана, которая приобретается за доллары и становится пищей для нашего ума. Для них булочка – это вкусная выпечка, а для нас – один из способов потребления гашиша. Эти благородные доисторические люди сначала женятся, потом заводят малышей, потом начинают разбираться в себе и, наконец, приходят к выводу, что они глубоко ошибались. И всё это только для того, чтобы жениться в очередной раз – чтобы совершить ещё более катастрофическую ошибку. Да вы в сказке живёте, пипл. К тебе с моей стороны, в сущности, только одна претензия: зачем надо было рожать меня? Что мне делать в этом мире?
Передо мной стоял мой сын, генно-модифицированный продукт, мутант, практически, в котором я с трудом узнавал себя. В нём не было даже признаков благородной ярости и злости – пороков, которые я презирал в себе.
Начинался конец лета. Стартовало оно чёрной неделей и заканчивалось неделей пречёрной. Ночи становились всё длиннее и длиннее. Дни, соответственно, укорачивались. Движение какое-то, положим, было; но было ли позитивное развитие в благословенную эпоху Всемирной Паутины, которая оплела планету на неопределённое время?
9
Полное одиночество, когда некому подать стакан воды, наступило гораздо раньше старости. Как я и предполагал.
И не так уж это и страшно. Скорее, даже забавно. Лежишь себе в своём углу на новом просторном диване, губы сохнут, кухня рядом, там чайник (китайский, жестяной) на плите, а в нём – кипячёная вода. Много воды. А вот сил подняться и налить себе стакан, другой, третий просто нет. А почему их нет?
Другие электронные книги автора Анатолий Николаевич Андреев
Девять




 0
0