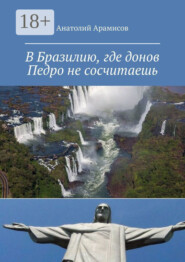По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Короли умирают последними
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Неизвестный немецкий ефрейтор, вернув жену Ивана Соколова к детям, спас трех девочек от неминуемой голодной смерти.
Спустя неделю немцы подали на станцию Швенченеляй пустой железнодорожный состав, забили первые три товарных вагона евреями и отловленными взрослыми мужиками, русскими. Вой людей заглушил прощальный гудок паровоза, увозившего несчастных в Германию, на каторгу. Состав медленно двигался по Литве, от станции к станции, постепенно наполняясь будущими узниками. Особенно тяжело было в первые два дня. Люди сидели, лежали, стояли в товарняке, как сельди в бочке, мучились от жажды, но конвоиры отгоняли от железнодорожного пути сердобольных женщин с ведрами, заполненными водой. На других станциях было полегче, в вагоны иногда залетали буханки хлеба, тут же раздираемые на части руками несчастных.
На четвертый день появились первые погибшие. Умерли трое маленьких детишек из евреев и две женщины. Смрадный запах внутри не выветривался ни на минуту, люди ходили под себя, лишь на редких остановках им разрешали туалет прямо у вагона.
Рядом с Иваном сидел седой старый еврей и беззвучно плакал, глядя на этот ужас. Его многочисленное семейство было раскидано по всему составу. Жена, дети, внуки, родственники. Они не успели собраться и убежать на восток, настолько стремительным был бросок вермахта в первые два дня войны. Еврея звали Семён Припис. Соколов помог ему забраться внутрь в Вильнюсе, когда увидел, что конвоир с винтовкой наперевес идет к грузному старику, который никак не может забросить ногу на дощатый пол вагона.
– Всё, это конец… это конец… всё… – шептал еврей, и слезы катились по его морщинистым щекам.
Иван скрипнул зубами.
– Не хорони себя раньше времени, папаша! – глухо проговорил он, наклоняясь к соседу. – Что-нибудь придумаем.
– Что вы таки придумаете? – всплеснул руками старик. – Нас перестреляют как куропаток! Их доктрина давно известна – уничтожить всех евреев и славян! Как права была моя Мася, что призывала нас еще в 39-м уехать к родственникам в Биробиджан! А теперь…
И он горестно, безнадежно махнул рукой.
– Не дрейфь, Сёма, всех не перестреляют, не перевешают! – зло ответил Соколов. – Веревок и патронов не хватит!
Проехали Варшаву.
Состав был уже забит битком, но немцы умудрялись запихивать в вагоны новые жертвы. Над пыльным перроном вокзала столицы Польши стоял неимоверный вой, люди внутри зажимали пальцами уши, чтобы не слышать этот рев отчаяния и скорби, прощания с надеждами, вопли страха перед неизбежной гибелью. Поляков почти не было среди новых узников, только евреи.
Иван сидел на полу возле двери вагона, согнув колени и прислонившись головой к деревянным доскам. Он старался отрешиться от происходящего, его мысли занимала только одна тема: «Бежать!» Еще в первый день он заметил, что доски пола, как раз там, где он сидел, расшатаны, и в некоторых местах между ними можно просунуть палец. Головки гвоздей, вонзенных в деревянные перекрытия, не были устрашающе мощными.
«Эх… топор бы сейчас сюда, – с тоской думал Соколов, ощупывая глазами прибывающих узников. – И пару крепких мужиков посмелее…»
– Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук! – колеса выбивали свою привычную дробь, равнодушно безжалостную, монотонную. С каждым часом Иван чувствовал всё большую тоску по дому, по дочерям и жене, что остались в Абелорагах. Без него они были обречены на полуголодное существование.
Вечерело.
Состав нёс в своей утробе тысячи разорванных судеб. Ни одной улыбки, ни единого радостного восклицания, ни единой шутки не раздавалось внутри. А наоборот, некоторые люди, испуганные и раздавленные, озлобленно теснили соседей, пытаясь отвоевать для себя кусочек пола, где можно было хоть чуть вытянуть ноги.
– Да не толкайся ты! – взвизгнул кто-то фальцетом. – Я и так все ребра натер об эту железяку!
– А мне куда прикажешь деться! Сам напираешь, что в очереди гетто за пайком!
Иван Соколов вздрогнул. Он приподнял голову, потом встал, выглядывая спорщиков. На его место тут же угнездились чьи-то ноги в пыльных ботинках.
– Что за железяка там, гражданин? – громко спросил Соколов.
– Таки скоба тут торчит в стенке! Я об неё уже синяк набил себе! Не толкайся, я сказал, а то сейчас сам толкну!
– Тише… тише, господа евреи! – усмехнулся Иван. – А ну, пропусти! Дай пройти туда на минутку, убери ноги!
Он с трудом протиснулся к задней стенке вагона, откуда доносился голос и радостно улыбнулся. За спиной пожилого еврея торчала железная скоба, которой крепят между собой бревна и толстые доски.
– Поберегись! Отползи, я сказал! – Иван поплевал на ладони и взялся двумя руками за железо. Потянул. Не идет.
Он крякнул, чуть отдышался и, осмотревшись вокруг, тихо сказал стоявшему в трех метрах от него молодому парню:
– Эй, друг, тебя как звать?
Тот буркнул:
– Илья, а что?
– А по фамилии?
– Ройзман.
– Вот что, Илья, помоги мне, прошу!
– Помочь? Зачем тебе эта железка?
– Скоро узнаешь. Так поможешь или нет?
Парень пожал плечами и протиснулся к Ивану.
– Давай вместе. Я двумя руками сверху, ты хотя бы одной, понял?
– Не дурак, понял…
Они рванули изо всех сил. Скоба поддалась и вылезла из дерева. Еще раз. Идет. Еще. Всё!
Иван с Ильей с трудом удержались на ногах, едва не упав на головы сидевших сзади людей.
– Пошли к той стенке… – тихо проговорил Соколов.
– Зачем?
– Пол пощупаем.
Спустя пять минут в вагоне раздался возмущенный крик Сёмы Приписа:
– Что вы таки делаете! Нас на следующей станции всех выведут из вагона и расстреляют! Не трогайте доски!
Соколов, весь красный от напряжения, с ненавистью процедил:
– Заткнись, старая сволочь! Лучше бы убрал свою задницу в сторону и не мешал. А ну, прочь отсюда, я сказал! Назад! Не то сейчас башку размозжу!
Толпа испуганно отползла.
Он сумел расшатать первую доску, поддев её скобой в щель.
– Пальцы засовывай, Илья. Тогда дернем вместе!
Пол капитулировал. Сначала одна доска, потом соседняя, третья, четвертая. Не слушая ругательств и причитаний людей, похожих на овец, покорно идущих на убой, двое мужчин боролись за свою свободу. Внизу было темно, как в преисподней, мелькание шпал сливалось в один сплошной черный поток.