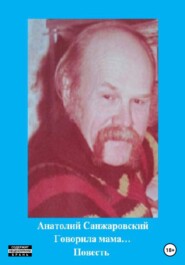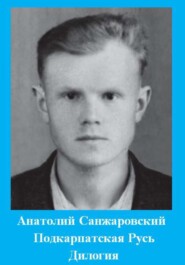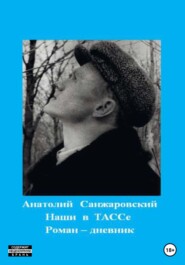По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Собрание сочинений в 15 томах. Том первый
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Собрание сочинений в 15 томах. Том первый
Анатолий Никифорович Санжаровский
Напутное Слово Виктора Астафьева, предисловие критика В. Курбатова, автобиографическая исповедь автора Анатолия Санжаровского «Репрессированный до зачатия»… Исповедь подводит к мысли: живи советская власть и сегодня, этот пятнадцатитомник никогда б не появился на свет. При Советах А.Санжаровского не печатали за то, что в 30-е годы его родители, неграмотные воронежские крестьяне, не вступили в колхоз. За это их сослали на лесоработы в Заполярье. Заодно с родителями репрессировали и будущего писателя за 4 года ДО его рождения. В первый том А.Санжаровского вошёл широкоизвестный роман «Оренбургский платок» о вязальщицах знаменитых оренбургских платков. Роман высоко оценён классиком В.Астафьевым, вышел в Дели и в Софии в переводах. Дилогия «Подкарпатская Русь» рассказывает о жизни русинов у себя на Родине, в Подкарпатской Руси, а также в Канаде и США. Повесть «Что девушка не знает, то её и красит» – о чистоте чувств молодых. Роман «Пешком через Байкал» – о трудностях журналистских будней.
Анатолий Санжаровский
Собрание сочинений в 15 томах. Том первый
Напутное слово В. Астафьева
«Дорогой Анатолий Никифорович!
Повесть хорошая.
Прочитал я её с большим удовольствием, многое было для меня ново и внове.
Дай Вам Бог и далее удачи, здоровья и радости в работе»
В. Астафьев
27 августа 1979 г.
г. Вологда».
(Виктор Астафьев об «Оренбургском платке»)
Доброму роду нет переводу
Опыт литературы исподволь приучил нас к мысли, что история, действующие лица истории – это в общем чаще всего резкие индивидуальности, мощно заряженные личности, люди яркой мысли и значительной культуры. Но мы всё время как-то то ли забываем, то ли просто пропускаем мимо ушей, что обиход истории складывается не от даты к дате, а каждый день и всеми живущими сейчас людьми. С этой, возможно, самой нужной и единственно объединяющей людей точки зрения, исторический человек – это каждый встреченный нами сию минуту прохожий, а история – каждый, даже и незаметно миновавший день, в который ничего не произошло. Я думаю, когда мы полно и ясно, с истинной серьёзностью осознаем это, в истории не будет статистов, а человек развернётся с неожиданной значительностью и глубиной.
Я говорю тут не о литературных героях, а о живых, реально работающих людях. В литературе-то у нас есть достаточно прекрасных характеров тех «простых», «прохожих» людей, кто сразу встаёт в памяти, едва мы скажем «русский народ», – это пушкинский Савельич из «Капитанской дочки», и толстовский Тушин из «Войны и мира», и некрасовские крестьянки. В последнее время этих характеров стало особенно много, потому что писатели сами стали выходить из сердцевинной народной среды и родились подлинно замечательные характеры беловского Ивана Африкановича, можаевского Кузькина и тех великих старых женщин, кто вынес на себе всю нашу историю, – вспомним хоть старуху Анну из распутинского «Последнего срока» и астафьевскую бабушку Катерину из «Последнего поклона». И нет им числа, этим великим учителям милосердия, стойкости, нравственной прочности, той коренной силы, без которой не стоит земля.
Но вот странность, или уж не знаю, как назвать: в литературе это для нас естественно, а когда судьба сводит нас с каким-нибудь старым человеком и он заявляет нам, что, если его жизнь описать, то непременно выйдет «роман», мы обыкновенно улыбаемся, находя это притязание или безосновательным, или неприятно-честолюбивым. Между тем в старом человеке говорит обычно или пусть небольшой читательский опыт, или, что вернее всего, – первородное чутьё к тому, что составляет суть исторической жизни и что действительно необходимо и важно для нормального накопления социально-нравственного опыта. Старый человек не знает этих слов и не думает о них, но он догадывается, что его простая, часто тяжелая жизнь совершилась не напрасно, что она была частью общей цепи, и ему хочется подтвердить необходимость своего звена, оправданность его пред общей народной жизнью, которую мы называем историей. Мы все это знаем по своим родителям, по старым своим матерям, а молодые люди – по бабушкам.
Анатолий Санжаровский хорошо запомнил материнские уроки, без улыбки принял уверенность каждого человека, что его жизнь – «целый роман», и был щедро вознагражден открывающимся ему в судьбах людей, с кем сводили его обстоятельства, глубоким и поучительным миром. Он научился слушать их сердцем, а люди чувствуют это сразу и открываются полно и радостно. При этом старые женщины еще и говорили тем прекрасным языком, который бережется по русским селам и ключевой своей чистотой поит реки литературной речи. Но в прозе мы обычно слышим его мало – чаще писатель, будто остерегаясь этой яркой, внешне не очень правильной, но крепкой и ладно подогнанной, как крестьянская одежда, речи, переводит ее в привычное русло литературного языка, уходя к несобственно-прямой речи, где можно пригасить слишком пестрые краски, так напоминающие старые деревенские лоскутные одеяла. А ведь эти одеяла, как и нарядные ситцы наволочек и занавесок, это узорочье прялочных росписей, все небывалые цветы, цветущие по сундукам и туесам, ложкам и коромыслам, были в лад речи, составляли здоровое неразъединимое целое.
Санжаровский решил оставить эту речь «как есть», во всей её живой стихийности, проверяя каждое слово на слух и примеряя, как сказала бы его мать. Чужие слова при этом отлетали сами, и попытка ввести авторскую речь казалась насильственной и напрасной. Писатель отказался «от себя».
Ну, наверно, надо оговорить, что «как есть», конечно, ничего на самом деле не пишется, иначе роль писателя сводилась бы к механическому акту стенографии, но работа отбора ведется уже в пределах органической народной речи. Писатель слушает и записывает ее везде. Благо, жизнь поводила его по нашей большой стране: родился в селе Ковда, на Кольском полуострове, а детство и юность провел в Грузии.
После школы, когда семья вернулась на Родину в Воронежскую область, был рабочим, журналистом; не устает учиться у матери, у пожилых крестьян. Давно собирает пословицы, поговорки, приметы, загадки, образные выражения – он и сам составил и выпустил в «Детской литературе» хорошую книжку народных загадок «Красное коромысло через реку повисло».
Вот и здесь читатель найдет много пословиц, предваряющих главы, и поймет, как животворно богат и необходим этот орнаментальный узор и умная канва каждой человеческой жизни. Пословица словно разворачивается вспять, и мы понимаем из материала книги, как она рождается жизнью, из чего растет и как складывается.
Особенно наглядна в этом смысле повесть «Оренбургский платок», где мы осязательно чувствуем истоки красоты старинного ремесла в самом ритме сказа замечательной оренбургской мастерицы Анны Федоровны Блиновой, словно и речь ее вяжется, как платок, и нить за нитью складывается в чудный узор судьбы. Судьба нижет канву жизни, а выходит узором платка. Иногда узор рождается как будто без оглядки на свою жизнь, и руки сами складывают «шашечки», «крупную малинку», «окошечки», «ягодки с самоварчиками» (каждому орнаменту свое имя), а иногда душа просит и «из разума» что-то вывести:
«Читала я про Даурию.
Живёт такая земля в восточном месте.
И так мне понравилась эта книжка-праздник. Так мне понравилась там природа…
Сплю, а сосны вижу. Амур-батюшку вижу.
У нас же тут в лесу сосны нету.
Не дочитала я ещё книжку, отложила початый платок. Взялась за новый и узор новый. По закраинам у меня, в кайме, скрозь сосенки. Ближе к серёдке тоже сосенки. А в самом в центре пустила я толстой кривулиной решётку зигзагом. Амур это.
Вязала я своего «Амура» день-ночь.
Наехала на меня, что ли, такая радостная блажь – пою себе да знай вяжу-рисую. Оно бы надо уже и поесть, а и на минуту не приневолишь себя выпустить из рук иголки. Хоть ты что! Работа для души, как болезнь. Манит…»
Писатель не зря включает в рассказ героини и много народных песен, песни и рукоделье, кажется, и родились вместе и всегда шли рука в руку. Да в сущности и вся эта обычная в своем горе и в своем свете жизнь – это тоже не что иное, как народная песня, только в песне обычно снято все частное, чтобы каждый легче узнал и пережил общее, а тут «спета» одна судьба, но тем же родным словом. Читатель сейчас сам это увидит, а я только камертон покажу, только поспешу обрадовать цитатой, как обещанием отрады чтения:
«А, думаю, чего это оне меня глазами щупают? Что особенного-то чёрт во мне свил?
Бабка как бабка. Под заступ смирно поглядываю. Честь знаю. Зажилась…
Когда сымали на тельвизор про встречку платочниц с жёлтинскими школьницами, про то, как мы передаём им своё рукомесло, так я, старая глупуня, неумно как сделала. Улыбнулась. А рот-то рваный, дырявый, беззубый.
Надо бы припрятать, а я разинула… Радуйся, Акулька, журавли летят!
О Господи, грехи тяжкие!
Да разве долго мёртвому засмеяться?
Смотрела потом на себя по телевизору – так стыд чуть со стулки не спихнул…»
Не пустое это пересмешничество, а тот здоровый корень жизни, тот улыбчивый свет терпения и силы, который помогал и героине этой повести, и другим старым женщинам в этой книге и во всей нашей непростой русской истории выходить из испытаний неожесточившимися, с ровной душевной ясностью, которая светит в пушкинской Арине Родионовне, в бабушке Алеши Пешкова, в распутинских старухах, а там вот и в Анне Федоровне Блиновой, которая через все беды сумела свое дело пронести высоко, стать большим художником и молодых научить, так что когда ее спрашивают, сколько живет платок, она справедливо и мудро отвечает: «Да ему, как и нашему роду, нет переводу – с годами разнашивается, растёт…» Замечательно верное слово – всякое доброе дело растет всю жизнь.
Растут внуки героини повести «Генацвалечка» – старой грузинской женщины, которая пешком, не зная русского языка, пошла к сыну на фронт и помогла ему и скольким еще солдатам своими добрыми руками и добрым сердцем. Санжаровский показал мне её фотографию – маленькая старушка в окружении детей и внуков снята в поле на фоне родных гор. Это только её внуки, а кто знает, сколько еще сберегла она тогда своей работой солдат, которые где-то растят своих детей. И добро её и её сердце во всех них неслышно отзовется и дальше пойдет росток.
Растет новая смена у старой героини повести «Жених и невеста», которая так много работала, что и дети («семерых погодков привела я в дом») выросли и внуки, а ей все некогда было со своим стариком (а ведь вчера еще, кажется, парнем был) в загс сходить и зарегистрировать свой все переживший брак. До войны с трактора не слезала, в войну намыкалась в оккупации, потом опять на трактор, вырастила целый отряд девушек-механизаторов, и дети за ней потянулись, и дочь подорвалась вместе с машиной на немецкой мине в родном поле, а другая дочка потянула борозду дальше.
Они не искали награды, эти старые подвижницы, – была бы жива родная земля и, если сейчас и поворчат иной раз, то не вовсе без права. Они немногого ждут – уважения своей старости. Героиня повести «Жених и невеста» Марьяна Михайловна Соколова справедливо сетует: «Когда ты при орденах говоришь с молодыми с красной трибуны, тебе всяк масляным грибом в рот заглядывает… А по какой по такой арифметике, ёлки-коляски, молодые считают, что старый незнаемый человек только при орденах да за красным столом в цене? Невжель только в медалях да в красном сукне вся сила почитания?»
Была ли хоть одна медалька у распутинской Анны из «Последнего срока» или у астафьевской бабушки Катерины? – а жизнь-то была прожита какая – смотри да слушай! Так и у героинь Санжаровского – простые все старухи, но землю кормят и род человеческий держат и обихаживают.
Немного грустно, что они уходят навсегда, что уходит с ними речь, которая еще так живо роднит их с некрасовскими красавицами, для которых никакой труд не в тягость. Новые поколения и в деревне будут жить другими заботами, и речь у них будет другая, но не зря автор в каждом произведении заглядывал и на молодые лица, и не зря всматривался в тех молодых женщин, которые только начинали свою дорогу. Он видел, как спокойно и естественно перенимают они дело и заветы уходящих. Мы не забудем старой пуховницы Анны Федоровны Блиновой, но в памяти будет держаться и та безымянная «конопатая молодица в выгоревшем ситцевом платьишке… в каком только от долгов и убегать» из городских уже модниц, но которая, выбравшись домой, сидит в деревне за спицами и не может оторваться: «…доброе зерно легло в душу, окрепло, проросло, и какие бы теперь неоткладные заботы ни отлучали её от спиц, она в непременности будет возвращаться к ним с повинной, как с болью в душе возвертаешься к себе на родину в глухую деревеньку, давным-давно забытую богом, но которую тебе ввек не забыть; до крайней минуты спицы будут в её руках в часы печали, грусти, отдохновения, как это сроду водится у всех жёлтинских баб".
Это доброе зерно прорастает в детях Марьяны Соколовой, во внуках Жении («Генацвалечка»). Крепнет оно в героине повести «Что девушка не знает, то её и красит», потому что не знает она ни уклончивости, ни двоедушия, ни легкой дороги, и в героине повести «И всё равно – не забудь!», поехавшей учить русскому языку армянских детей в самое глухое село, потому что когда-то в Ленинграде, в блокаду, ей, умирающей девочке, отдал последний сухарь армянский юноша солдат, и она должна была теперь отблагодарить его и родившую его землю.
Так в книге, как в хорошем доме, жизнь и идет, обновляясь и молодея, но не забывая лучшего, что делает организм общества человечески здоровым и надежным.
Историческая память, историческое наследие – это очень большие слова, и их как-то и употреблять неловко, но если поглядеть конкретное, будничное их содержание, то сразу станет видно, что этические уроки героинь Санжаровского при их простоте достаточно почтенны в нашей истории и литературе. Вспомнить только, чему учили, какие заветы оставляли непутевый лесковский Левша, хитрованы и мудрецы корабельные мастера в сказах архангельского волшебника Б. Шергина, рассудительные добрые камнерезы и философы П. Бажова и все уже помянутые мной старые женщины в русской поэзии и прозе, то и окажется, что все они клонили к одному, что перво-наперво надо жить по сердцу и по душе, «как мать поставила», а Родина и время подскажут остальное, дадут и дело, и опыт, и оценят по сделанному.
Очень хорошо, что молодые герои смыкаются со старыми в этих важных понятиях, и, значит, можно надеяться, что добрые дела будут и вперёд расти в нашей земле от крепких родимых корней.
Валентин Курбатов
Репрессированный до зачатия
Анатолий Никифорович Санжаровский
Напутное Слово Виктора Астафьева, предисловие критика В. Курбатова, автобиографическая исповедь автора Анатолия Санжаровского «Репрессированный до зачатия»… Исповедь подводит к мысли: живи советская власть и сегодня, этот пятнадцатитомник никогда б не появился на свет. При Советах А.Санжаровского не печатали за то, что в 30-е годы его родители, неграмотные воронежские крестьяне, не вступили в колхоз. За это их сослали на лесоработы в Заполярье. Заодно с родителями репрессировали и будущего писателя за 4 года ДО его рождения. В первый том А.Санжаровского вошёл широкоизвестный роман «Оренбургский платок» о вязальщицах знаменитых оренбургских платков. Роман высоко оценён классиком В.Астафьевым, вышел в Дели и в Софии в переводах. Дилогия «Подкарпатская Русь» рассказывает о жизни русинов у себя на Родине, в Подкарпатской Руси, а также в Канаде и США. Повесть «Что девушка не знает, то её и красит» – о чистоте чувств молодых. Роман «Пешком через Байкал» – о трудностях журналистских будней.
Анатолий Санжаровский
Собрание сочинений в 15 томах. Том первый
Напутное слово В. Астафьева
«Дорогой Анатолий Никифорович!
Повесть хорошая.
Прочитал я её с большим удовольствием, многое было для меня ново и внове.
Дай Вам Бог и далее удачи, здоровья и радости в работе»
В. Астафьев
27 августа 1979 г.
г. Вологда».
(Виктор Астафьев об «Оренбургском платке»)
Доброму роду нет переводу
Опыт литературы исподволь приучил нас к мысли, что история, действующие лица истории – это в общем чаще всего резкие индивидуальности, мощно заряженные личности, люди яркой мысли и значительной культуры. Но мы всё время как-то то ли забываем, то ли просто пропускаем мимо ушей, что обиход истории складывается не от даты к дате, а каждый день и всеми живущими сейчас людьми. С этой, возможно, самой нужной и единственно объединяющей людей точки зрения, исторический человек – это каждый встреченный нами сию минуту прохожий, а история – каждый, даже и незаметно миновавший день, в который ничего не произошло. Я думаю, когда мы полно и ясно, с истинной серьёзностью осознаем это, в истории не будет статистов, а человек развернётся с неожиданной значительностью и глубиной.
Я говорю тут не о литературных героях, а о живых, реально работающих людях. В литературе-то у нас есть достаточно прекрасных характеров тех «простых», «прохожих» людей, кто сразу встаёт в памяти, едва мы скажем «русский народ», – это пушкинский Савельич из «Капитанской дочки», и толстовский Тушин из «Войны и мира», и некрасовские крестьянки. В последнее время этих характеров стало особенно много, потому что писатели сами стали выходить из сердцевинной народной среды и родились подлинно замечательные характеры беловского Ивана Африкановича, можаевского Кузькина и тех великих старых женщин, кто вынес на себе всю нашу историю, – вспомним хоть старуху Анну из распутинского «Последнего срока» и астафьевскую бабушку Катерину из «Последнего поклона». И нет им числа, этим великим учителям милосердия, стойкости, нравственной прочности, той коренной силы, без которой не стоит земля.
Но вот странность, или уж не знаю, как назвать: в литературе это для нас естественно, а когда судьба сводит нас с каким-нибудь старым человеком и он заявляет нам, что, если его жизнь описать, то непременно выйдет «роман», мы обыкновенно улыбаемся, находя это притязание или безосновательным, или неприятно-честолюбивым. Между тем в старом человеке говорит обычно или пусть небольшой читательский опыт, или, что вернее всего, – первородное чутьё к тому, что составляет суть исторической жизни и что действительно необходимо и важно для нормального накопления социально-нравственного опыта. Старый человек не знает этих слов и не думает о них, но он догадывается, что его простая, часто тяжелая жизнь совершилась не напрасно, что она была частью общей цепи, и ему хочется подтвердить необходимость своего звена, оправданность его пред общей народной жизнью, которую мы называем историей. Мы все это знаем по своим родителям, по старым своим матерям, а молодые люди – по бабушкам.
Анатолий Санжаровский хорошо запомнил материнские уроки, без улыбки принял уверенность каждого человека, что его жизнь – «целый роман», и был щедро вознагражден открывающимся ему в судьбах людей, с кем сводили его обстоятельства, глубоким и поучительным миром. Он научился слушать их сердцем, а люди чувствуют это сразу и открываются полно и радостно. При этом старые женщины еще и говорили тем прекрасным языком, который бережется по русским селам и ключевой своей чистотой поит реки литературной речи. Но в прозе мы обычно слышим его мало – чаще писатель, будто остерегаясь этой яркой, внешне не очень правильной, но крепкой и ладно подогнанной, как крестьянская одежда, речи, переводит ее в привычное русло литературного языка, уходя к несобственно-прямой речи, где можно пригасить слишком пестрые краски, так напоминающие старые деревенские лоскутные одеяла. А ведь эти одеяла, как и нарядные ситцы наволочек и занавесок, это узорочье прялочных росписей, все небывалые цветы, цветущие по сундукам и туесам, ложкам и коромыслам, были в лад речи, составляли здоровое неразъединимое целое.
Санжаровский решил оставить эту речь «как есть», во всей её живой стихийности, проверяя каждое слово на слух и примеряя, как сказала бы его мать. Чужие слова при этом отлетали сами, и попытка ввести авторскую речь казалась насильственной и напрасной. Писатель отказался «от себя».
Ну, наверно, надо оговорить, что «как есть», конечно, ничего на самом деле не пишется, иначе роль писателя сводилась бы к механическому акту стенографии, но работа отбора ведется уже в пределах органической народной речи. Писатель слушает и записывает ее везде. Благо, жизнь поводила его по нашей большой стране: родился в селе Ковда, на Кольском полуострове, а детство и юность провел в Грузии.
После школы, когда семья вернулась на Родину в Воронежскую область, был рабочим, журналистом; не устает учиться у матери, у пожилых крестьян. Давно собирает пословицы, поговорки, приметы, загадки, образные выражения – он и сам составил и выпустил в «Детской литературе» хорошую книжку народных загадок «Красное коромысло через реку повисло».
Вот и здесь читатель найдет много пословиц, предваряющих главы, и поймет, как животворно богат и необходим этот орнаментальный узор и умная канва каждой человеческой жизни. Пословица словно разворачивается вспять, и мы понимаем из материала книги, как она рождается жизнью, из чего растет и как складывается.
Особенно наглядна в этом смысле повесть «Оренбургский платок», где мы осязательно чувствуем истоки красоты старинного ремесла в самом ритме сказа замечательной оренбургской мастерицы Анны Федоровны Блиновой, словно и речь ее вяжется, как платок, и нить за нитью складывается в чудный узор судьбы. Судьба нижет канву жизни, а выходит узором платка. Иногда узор рождается как будто без оглядки на свою жизнь, и руки сами складывают «шашечки», «крупную малинку», «окошечки», «ягодки с самоварчиками» (каждому орнаменту свое имя), а иногда душа просит и «из разума» что-то вывести:
«Читала я про Даурию.
Живёт такая земля в восточном месте.
И так мне понравилась эта книжка-праздник. Так мне понравилась там природа…
Сплю, а сосны вижу. Амур-батюшку вижу.
У нас же тут в лесу сосны нету.
Не дочитала я ещё книжку, отложила початый платок. Взялась за новый и узор новый. По закраинам у меня, в кайме, скрозь сосенки. Ближе к серёдке тоже сосенки. А в самом в центре пустила я толстой кривулиной решётку зигзагом. Амур это.
Вязала я своего «Амура» день-ночь.
Наехала на меня, что ли, такая радостная блажь – пою себе да знай вяжу-рисую. Оно бы надо уже и поесть, а и на минуту не приневолишь себя выпустить из рук иголки. Хоть ты что! Работа для души, как болезнь. Манит…»
Писатель не зря включает в рассказ героини и много народных песен, песни и рукоделье, кажется, и родились вместе и всегда шли рука в руку. Да в сущности и вся эта обычная в своем горе и в своем свете жизнь – это тоже не что иное, как народная песня, только в песне обычно снято все частное, чтобы каждый легче узнал и пережил общее, а тут «спета» одна судьба, но тем же родным словом. Читатель сейчас сам это увидит, а я только камертон покажу, только поспешу обрадовать цитатой, как обещанием отрады чтения:
«А, думаю, чего это оне меня глазами щупают? Что особенного-то чёрт во мне свил?
Бабка как бабка. Под заступ смирно поглядываю. Честь знаю. Зажилась…
Когда сымали на тельвизор про встречку платочниц с жёлтинскими школьницами, про то, как мы передаём им своё рукомесло, так я, старая глупуня, неумно как сделала. Улыбнулась. А рот-то рваный, дырявый, беззубый.
Надо бы припрятать, а я разинула… Радуйся, Акулька, журавли летят!
О Господи, грехи тяжкие!
Да разве долго мёртвому засмеяться?
Смотрела потом на себя по телевизору – так стыд чуть со стулки не спихнул…»
Не пустое это пересмешничество, а тот здоровый корень жизни, тот улыбчивый свет терпения и силы, который помогал и героине этой повести, и другим старым женщинам в этой книге и во всей нашей непростой русской истории выходить из испытаний неожесточившимися, с ровной душевной ясностью, которая светит в пушкинской Арине Родионовне, в бабушке Алеши Пешкова, в распутинских старухах, а там вот и в Анне Федоровне Блиновой, которая через все беды сумела свое дело пронести высоко, стать большим художником и молодых научить, так что когда ее спрашивают, сколько живет платок, она справедливо и мудро отвечает: «Да ему, как и нашему роду, нет переводу – с годами разнашивается, растёт…» Замечательно верное слово – всякое доброе дело растет всю жизнь.
Растут внуки героини повести «Генацвалечка» – старой грузинской женщины, которая пешком, не зная русского языка, пошла к сыну на фронт и помогла ему и скольким еще солдатам своими добрыми руками и добрым сердцем. Санжаровский показал мне её фотографию – маленькая старушка в окружении детей и внуков снята в поле на фоне родных гор. Это только её внуки, а кто знает, сколько еще сберегла она тогда своей работой солдат, которые где-то растят своих детей. И добро её и её сердце во всех них неслышно отзовется и дальше пойдет росток.
Растет новая смена у старой героини повести «Жених и невеста», которая так много работала, что и дети («семерых погодков привела я в дом») выросли и внуки, а ей все некогда было со своим стариком (а ведь вчера еще, кажется, парнем был) в загс сходить и зарегистрировать свой все переживший брак. До войны с трактора не слезала, в войну намыкалась в оккупации, потом опять на трактор, вырастила целый отряд девушек-механизаторов, и дети за ней потянулись, и дочь подорвалась вместе с машиной на немецкой мине в родном поле, а другая дочка потянула борозду дальше.
Они не искали награды, эти старые подвижницы, – была бы жива родная земля и, если сейчас и поворчат иной раз, то не вовсе без права. Они немногого ждут – уважения своей старости. Героиня повести «Жених и невеста» Марьяна Михайловна Соколова справедливо сетует: «Когда ты при орденах говоришь с молодыми с красной трибуны, тебе всяк масляным грибом в рот заглядывает… А по какой по такой арифметике, ёлки-коляски, молодые считают, что старый незнаемый человек только при орденах да за красным столом в цене? Невжель только в медалях да в красном сукне вся сила почитания?»
Была ли хоть одна медалька у распутинской Анны из «Последнего срока» или у астафьевской бабушки Катерины? – а жизнь-то была прожита какая – смотри да слушай! Так и у героинь Санжаровского – простые все старухи, но землю кормят и род человеческий держат и обихаживают.
Немного грустно, что они уходят навсегда, что уходит с ними речь, которая еще так живо роднит их с некрасовскими красавицами, для которых никакой труд не в тягость. Новые поколения и в деревне будут жить другими заботами, и речь у них будет другая, но не зря автор в каждом произведении заглядывал и на молодые лица, и не зря всматривался в тех молодых женщин, которые только начинали свою дорогу. Он видел, как спокойно и естественно перенимают они дело и заветы уходящих. Мы не забудем старой пуховницы Анны Федоровны Блиновой, но в памяти будет держаться и та безымянная «конопатая молодица в выгоревшем ситцевом платьишке… в каком только от долгов и убегать» из городских уже модниц, но которая, выбравшись домой, сидит в деревне за спицами и не может оторваться: «…доброе зерно легло в душу, окрепло, проросло, и какие бы теперь неоткладные заботы ни отлучали её от спиц, она в непременности будет возвращаться к ним с повинной, как с болью в душе возвертаешься к себе на родину в глухую деревеньку, давным-давно забытую богом, но которую тебе ввек не забыть; до крайней минуты спицы будут в её руках в часы печали, грусти, отдохновения, как это сроду водится у всех жёлтинских баб".
Это доброе зерно прорастает в детях Марьяны Соколовой, во внуках Жении («Генацвалечка»). Крепнет оно в героине повести «Что девушка не знает, то её и красит», потому что не знает она ни уклончивости, ни двоедушия, ни легкой дороги, и в героине повести «И всё равно – не забудь!», поехавшей учить русскому языку армянских детей в самое глухое село, потому что когда-то в Ленинграде, в блокаду, ей, умирающей девочке, отдал последний сухарь армянский юноша солдат, и она должна была теперь отблагодарить его и родившую его землю.
Так в книге, как в хорошем доме, жизнь и идет, обновляясь и молодея, но не забывая лучшего, что делает организм общества человечески здоровым и надежным.
Историческая память, историческое наследие – это очень большие слова, и их как-то и употреблять неловко, но если поглядеть конкретное, будничное их содержание, то сразу станет видно, что этические уроки героинь Санжаровского при их простоте достаточно почтенны в нашей истории и литературе. Вспомнить только, чему учили, какие заветы оставляли непутевый лесковский Левша, хитрованы и мудрецы корабельные мастера в сказах архангельского волшебника Б. Шергина, рассудительные добрые камнерезы и философы П. Бажова и все уже помянутые мной старые женщины в русской поэзии и прозе, то и окажется, что все они клонили к одному, что перво-наперво надо жить по сердцу и по душе, «как мать поставила», а Родина и время подскажут остальное, дадут и дело, и опыт, и оценят по сделанному.
Очень хорошо, что молодые герои смыкаются со старыми в этих важных понятиях, и, значит, можно надеяться, что добрые дела будут и вперёд расти в нашей земле от крепких родимых корней.
Валентин Курбатов
Репрессированный до зачатия