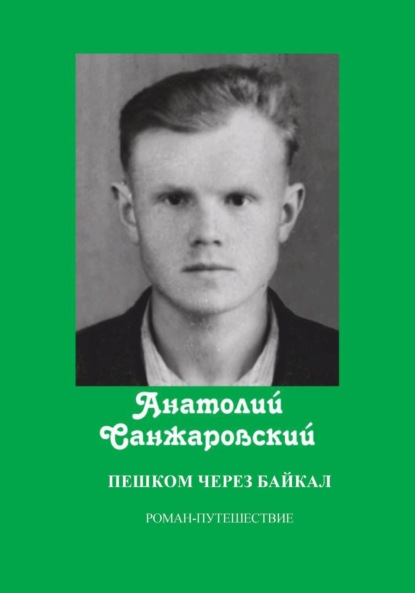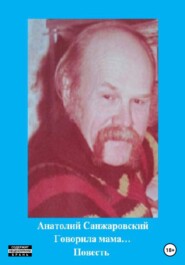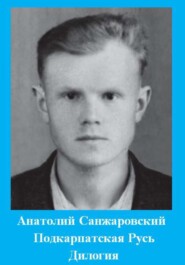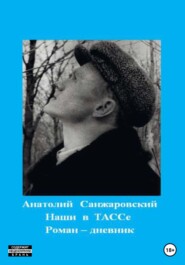По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пешком через Байкал
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Словно из самого из Байкала вынырнули.
По низу каменной прядки рассыпались спичечные человечки. Похоже, наши устраивали привал.
– Сколько до наших? – спросил я Генку, подсадил повыше на нос свои далевые очки.
– А я почём знаю… Байкальские вёрсты чёрт мерил, да в воду ушёл.
О! У миража жестокие шутки!
Битый час мы летели, покуда обеденный таборок наших не стал виден явственно.
От чёрного кома отпала мелконькая одна фигурка. Во весь карьер ударилась к нам.
Быструха проворно нарастала, приближалась.
Это была Светлана.
Не доскребла до нас малые метры. Остановилась.
– Мужчинам медицинская помощь не требуется?
Генка пошёл к ней.
– Доктор… – я обогнул изумлённого Генку, готовно понёс ей руку. Я очень люблю подсовывать врачицам что-нибудь из своего. – Доктор, пощупайте, пожалуйста, у меня хоть пульс!
Она с улыбкой взяла руку.
Я смотрел на неё, смотрел и не мог в большой неволе убрать глаза. Когда Светлана улыбалась, на её щеках всплывали смешки; эти ласковые умилки, эти ямки походили на круто кипевшие дикошарые, бешеные, затяжины на речном гиблом полноводье, губящие в момент всякого-разного, только кто попадись.
Свободной рукой я сжал у запястья её свободную руку. Крохотные толчки в радости забились мне в прихватной большой палец.
– Сердце… Да у нашего доктора есть сердце! – в тихом удивлении доложил я Генке.
Без вины, без причины лицо его зачужело, взялось землёй.
– Между прочим, по какому праву ты держишь её за руку?
– По праву, возможно, больного. Доктор, проверьте и у него пульс. Пускай успокоится. И скажите, чей лучше.
Ямочки потонули у неё на щеках.
Она с усилием взяла и его за руку.
Тут же сухо обронила:
– Одинаковые… Боевая ничья…
– Собирай ещё чего! – меж зубов пустил Генка. – Враки.
– Ну уж знаешь! – дрожаще, с обидой возразила Светлана.
Ничегошеньки больше не сказала, повернулась и скорей заторопилась прочь.
Из-под напрягшихся набухлых бровей Генка, заледенелый, недобрый, каменно воззрился ей вослед не мигая. Выворотил:
– Тоже мне лекаришка-крутишка… От общей могилы ключница…
Что подсатанило, что именно разозлило его круто?
– А ты случаем не слыхал? – спросил он меня угрюмо, жёлчно. Желваки налились, ожили, заходила на скулах, выскобленных до мёртвой сини чисто. – Было у Байкала триста тридцать три сына, среди которых, как ни старайся, не отыскать, прошу прощения, ни тебя, ни тем более меня. И была одна дочка Ангара. И вот однажды убежала она к Енисею… Комедь вся… убежала ж… – маятно, потерянно загрёб он рукой в сторону крылато отдалявшейся тоненькой фигурки, скользом, с натугой едва касался подушечкой большого пальца маковок четырёх остальных пальцев, словно порывался потрогать это простое и разом беду сулящее слово "убежала", хотел и – боялся, отчего накалился, всю злобу, похоже, гнал на меня и уже через минуту лешево взглядывал в мою сторону сквозь ненависть.
Что ещё за дьявольщина!? Угорел в нетопленной хате! Неужели девушка воистину позарез необходимое зло в походе? Не хватало ещё сцепиться.
– Слушай, – процедил я внатяжку, – чем я тебя огневил? Скажи прямо… как мужик мужику… Может, у тебя с нею роман?
– С продолжением! – рыкнул он.
– Завершишь экскурсией в загс?
Он отмолчался.
Открытый разговор у нас не вязался, обламывался…
13
Не обычай дёгтем щи белить, на то сметана.
И комар лошадь свалит, коли волк пособит.
Табор наших снимался уже дальше, когда мы с Генкой в молчании, что удлиняло путь, пристали к крайним.
Я тронул за локоть фотокора, что шёл мимо, попросил снять на виду костра посреди этого ледяного кладбища без конца. Грешен, охота уцелеть хоть на карточке.
Малый, кислый, медвежеватый в движениях, заметно вылинял. В столовке гоношился экий вертоголовый орёлик, теперь же он долго и трудно опускался на колено; уныло щёлкнув, так же долго и трудно подымался, еле поднялся и неуверенно заколыхался за убегавшими.
А костерок (дрова несли ребята с собой), умело разживлённый, всё ещё жил. Над ним с переяслицы, с шестка, что лежал на развилочках, свисал котелок. В котелке высоко кипела вода, давала ключ.
И Генке и мне Борис с верхом, в оплыв, ухнул в портянухи, в самодельные деревянные чашки, крутого кипятку, отвалил по ломтю хлеба с салом, как вдруг принесло откуда-то глухое посвистыванье, будто кто свистел в кулак под толстым одеялом.
Насторожку выгнули Генка с Борисом шеи, как бы сказал липкий к словесным штукам Генка, "повесили уши на гвоздь внимания".
– Полетели! – гаркнул Борис. – О! О-о-о!..
Вылупили мы с Генкой шарёнки, куда тыкал пальцем Борис, но решительно ничего не видели.
– И свиста крыльев не слышите?!
– И свиста, – сознался Генка, розовея в лице.