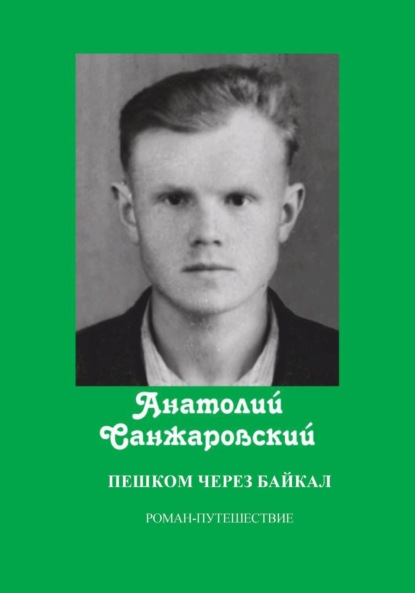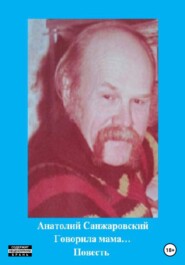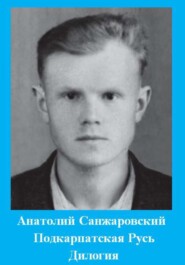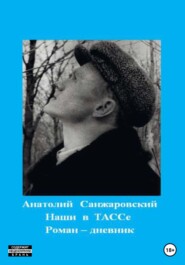По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пешком через Байкал
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пошло дело на лад:
словно один держит, другой не пускает.
Сломалось что-то во мне, сломалось, потерялось что-то такое, без чего я уже не я, без чего вытекли из дня ясный свет, радость.
Может, всё дело в усталости?
Вторая половина пути, как и вторая половина жизни, постепенно теряет свою притягательную силу. Блёкнут краски в окружающем тебя мире, приедаются теснящие по все дни тебя вещи, лица, ты всё больше спокоен к ним душой, охладелый, остылый.
Мы бредём молчаком.
Похоже, устали не только от Байкала, устали и друг от друга. От бесконечных разговоров языки за щеку позавалились.
Самолучше – побезмолвствовать, покопить, сбиться силами.
Я примечаю, отяжелелый Генка шествует как-то не так.
Без аппетита.
Переставляя ногу, принужденно широко, с остережением забирает в сторону.
– Ты чего, как пингвин?
– А-а… Потёр всё на свете…
Мне набежало съехидничать про себя. Ага, и ты по колени ноги оттоптал! Потише, кипяточек, лети!
Обмякнув, он уже не свирепствовал, не смотрел на меня сквозь злость, не понужал торопиться против прежнего.
Вижу, и у молодого, легкого бегунца мощей не без меры, похоже, выдохся и он, неповалимый скакун.
Ни дать ни взять, осталось на двоих три ноги, кто б только нам и переставлял их – силушка своя вся повытекла…
То Генка мёл рядом со мной, теперь же трудно отламывался на лыжах шагов на сто вперёд, валился грудью на палки и, не поворачиваясь, киснул, покуда не подберусь я.
Я добросовестно, круто жёг вслед, в малые секунды загнанно равнялся с ним и ладился хоть отдышаться, пуская в цене свою усталость как раззаконное право на отдых. Вон вся братия обедничала часа полтора, можно было выспаться, а я за всю дорогу останавливался, не присаживаясь, минут, гляди, на десяток. Право слово, без конца то бежать, то идти на скору руку – тут ощутишь аромат каторги.
Но я не роптал, я спешил как мог, всё время нянча надежду на капельный передых, – Генка не давал. Как только я настигал его, он тут же отпихивался дальше, минут через пять вновь свисал с палок, сох.
И эту его лёжку на палках я повернул пользой в свою сторону. Важничая, строя из себя Ивана, он не оборачивался – ну и не надо! – я проворно пластался на лёд. И лишь когда меня не было очень долго, он всё ж из милости оглядывался.
Следил я за ним в оба.
Едва начинал он неуклюже, всем корпусом повёртываться, я пускал глаза в лёд, показывая видом, что мне там до невозможности что-то поглянулось, никак не надышусь на осточертевшие картинки в коренном льду.
Не сдерживался Генка, размягчённо, расшибленно выполаскивал:
– Не-е… недисциплинистый ты… Ну чего разложился?.. Чего пялиться? Не понимаю… Не стёр ещё глаза об этот дурацкий лёд? Любопытная Варвара…
– Не Варвара, а Варвар… Как-никак мужеского профиля. А потом, не такой уж великий грех любопытство. Любопытство вывело человека из пещеры, закинуло в космос…
Генка лениво хмыкнул. Дескать, соображалистый, мели, мели, на язык пошлины нет и, не слушая моё пустое, убрёл восвояси.
Трудно перебираю я зачужелыми ногами, еле скребусь за ним и не свожу взора с маячивших впереди гор, похожих на табун белых лошадей.
Не знаю ничего коварней байкальского миража.
Горы торчат на виду уже не час, не два, не три. Во всё это время такое ощущение, что мы не наблизились к ним ни на локоть.
Я смотрю себе под ноги и не верю, что бегу.
Кажется, это всего-то лишь пустая пробежка на месте, ровно так, как оседлаешь велосипед на подставке. Дико вертятся колеса, спицы – сплошной белый ком, ты в поту, полная иллюзия бешеной езды, но всё это только иллюзия.
Лёд пошёл совсем голый. Ровный, вгладь. Хоть кубарем катись.
Идти в лысых ботинках несахарно; то и дело, убиваясь до смерти, валишься с ног, валишься, как чурка с бровками.
Ко всему прочему сильно подвернулась левая нога, вывихнутая в коленке на футболе ещё в школе. Стало и вовсе невмоготу.
Развесив в стороны руки, абы не грохнуться, с опаской кой-как пропрыгивал малый кусочек пути, метров с двадцать, и, не таясь, как срезанный с корня, валился передохнуть: ну совсем с ног сгорел.
Видел это Генка, не ворчал.
Только однажды сронил к разу уговорчиво:
– Не ложись на лёд… Холодный. Лучше на снег…
Я побаивался смотреть дальше своего носа, вовсе не отваживался смотреть на сам берег. Я не верил уже ясно видимым домам, не верил, ходившим там людям. Мерещилось, посмотри я и всё это: и берег, и дома, и люди – ещё дальше уйдет и туда я уж ни в какие силы не доточу.
А потому, переводя дух, высматривал ближнюю ко мне белую полоску; напрочь не веря, что дотянусь, всё же, однако, скользом добирался, раз по разу падая.
В конце концов и падения повернул я себе к пользе, вырешил, что падения – заслуженное право на передышку даже меж снежными, натянутыми из снега, сабельками.
"Кувыркнулся – не спеши вскакивать. Вернись сначала в себя…"
На первых порах, ладясь лечь, я в остережении и долго таки клал вытянутую подвернувшуюся ногу на лёд; теперь же в мгновение распластывало меня, – жмурясь, оловянным солдатиком валился на плечо.
Зато ничего не было каторжней вставанья.
Насквозь мокрые и гудевшие с устали ноги вовсе отказывались нести. Подымаясь, полвечности торчал на четырёх костях, всё не насмеливался отодрать руки ото льда.
"Вот если б двигаться лёжа, не вставая…"
Попытал катиться, катиться дровиной – ни черта. Вертит как-то кругами на месте…
Божечко праведный!
Да нас встречает Борис, беда моя и выручка.
словно один держит, другой не пускает.
Сломалось что-то во мне, сломалось, потерялось что-то такое, без чего я уже не я, без чего вытекли из дня ясный свет, радость.
Может, всё дело в усталости?
Вторая половина пути, как и вторая половина жизни, постепенно теряет свою притягательную силу. Блёкнут краски в окружающем тебя мире, приедаются теснящие по все дни тебя вещи, лица, ты всё больше спокоен к ним душой, охладелый, остылый.
Мы бредём молчаком.
Похоже, устали не только от Байкала, устали и друг от друга. От бесконечных разговоров языки за щеку позавалились.
Самолучше – побезмолвствовать, покопить, сбиться силами.
Я примечаю, отяжелелый Генка шествует как-то не так.
Без аппетита.
Переставляя ногу, принужденно широко, с остережением забирает в сторону.
– Ты чего, как пингвин?
– А-а… Потёр всё на свете…
Мне набежало съехидничать про себя. Ага, и ты по колени ноги оттоптал! Потише, кипяточек, лети!
Обмякнув, он уже не свирепствовал, не смотрел на меня сквозь злость, не понужал торопиться против прежнего.
Вижу, и у молодого, легкого бегунца мощей не без меры, похоже, выдохся и он, неповалимый скакун.
Ни дать ни взять, осталось на двоих три ноги, кто б только нам и переставлял их – силушка своя вся повытекла…
То Генка мёл рядом со мной, теперь же трудно отламывался на лыжах шагов на сто вперёд, валился грудью на палки и, не поворачиваясь, киснул, покуда не подберусь я.
Я добросовестно, круто жёг вслед, в малые секунды загнанно равнялся с ним и ладился хоть отдышаться, пуская в цене свою усталость как раззаконное право на отдых. Вон вся братия обедничала часа полтора, можно было выспаться, а я за всю дорогу останавливался, не присаживаясь, минут, гляди, на десяток. Право слово, без конца то бежать, то идти на скору руку – тут ощутишь аромат каторги.
Но я не роптал, я спешил как мог, всё время нянча надежду на капельный передых, – Генка не давал. Как только я настигал его, он тут же отпихивался дальше, минут через пять вновь свисал с палок, сох.
И эту его лёжку на палках я повернул пользой в свою сторону. Важничая, строя из себя Ивана, он не оборачивался – ну и не надо! – я проворно пластался на лёд. И лишь когда меня не было очень долго, он всё ж из милости оглядывался.
Следил я за ним в оба.
Едва начинал он неуклюже, всем корпусом повёртываться, я пускал глаза в лёд, показывая видом, что мне там до невозможности что-то поглянулось, никак не надышусь на осточертевшие картинки в коренном льду.
Не сдерживался Генка, размягчённо, расшибленно выполаскивал:
– Не-е… недисциплинистый ты… Ну чего разложился?.. Чего пялиться? Не понимаю… Не стёр ещё глаза об этот дурацкий лёд? Любопытная Варвара…
– Не Варвара, а Варвар… Как-никак мужеского профиля. А потом, не такой уж великий грех любопытство. Любопытство вывело человека из пещеры, закинуло в космос…
Генка лениво хмыкнул. Дескать, соображалистый, мели, мели, на язык пошлины нет и, не слушая моё пустое, убрёл восвояси.
Трудно перебираю я зачужелыми ногами, еле скребусь за ним и не свожу взора с маячивших впереди гор, похожих на табун белых лошадей.
Не знаю ничего коварней байкальского миража.
Горы торчат на виду уже не час, не два, не три. Во всё это время такое ощущение, что мы не наблизились к ним ни на локоть.
Я смотрю себе под ноги и не верю, что бегу.
Кажется, это всего-то лишь пустая пробежка на месте, ровно так, как оседлаешь велосипед на подставке. Дико вертятся колеса, спицы – сплошной белый ком, ты в поту, полная иллюзия бешеной езды, но всё это только иллюзия.
Лёд пошёл совсем голый. Ровный, вгладь. Хоть кубарем катись.
Идти в лысых ботинках несахарно; то и дело, убиваясь до смерти, валишься с ног, валишься, как чурка с бровками.
Ко всему прочему сильно подвернулась левая нога, вывихнутая в коленке на футболе ещё в школе. Стало и вовсе невмоготу.
Развесив в стороны руки, абы не грохнуться, с опаской кой-как пропрыгивал малый кусочек пути, метров с двадцать, и, не таясь, как срезанный с корня, валился передохнуть: ну совсем с ног сгорел.
Видел это Генка, не ворчал.
Только однажды сронил к разу уговорчиво:
– Не ложись на лёд… Холодный. Лучше на снег…
Я побаивался смотреть дальше своего носа, вовсе не отваживался смотреть на сам берег. Я не верил уже ясно видимым домам, не верил, ходившим там людям. Мерещилось, посмотри я и всё это: и берег, и дома, и люди – ещё дальше уйдет и туда я уж ни в какие силы не доточу.
А потому, переводя дух, высматривал ближнюю ко мне белую полоску; напрочь не веря, что дотянусь, всё же, однако, скользом добирался, раз по разу падая.
В конце концов и падения повернул я себе к пользе, вырешил, что падения – заслуженное право на передышку даже меж снежными, натянутыми из снега, сабельками.
"Кувыркнулся – не спеши вскакивать. Вернись сначала в себя…"
На первых порах, ладясь лечь, я в остережении и долго таки клал вытянутую подвернувшуюся ногу на лёд; теперь же в мгновение распластывало меня, – жмурясь, оловянным солдатиком валился на плечо.
Зато ничего не было каторжней вставанья.
Насквозь мокрые и гудевшие с устали ноги вовсе отказывались нести. Подымаясь, полвечности торчал на четырёх костях, всё не насмеливался отодрать руки ото льда.
"Вот если б двигаться лёжа, не вставая…"
Попытал катиться, катиться дровиной – ни черта. Вертит как-то кругами на месте…
Божечко праведный!
Да нас встречает Борис, беда моя и выручка.