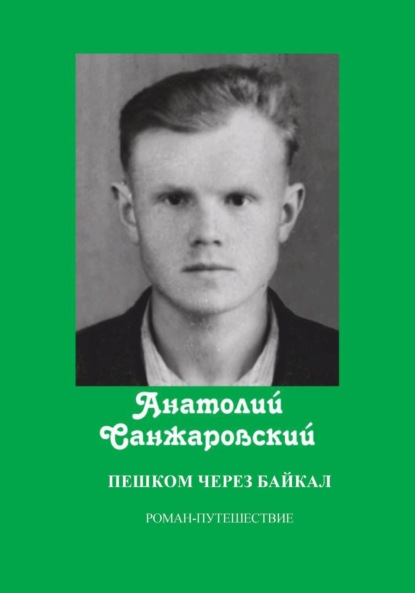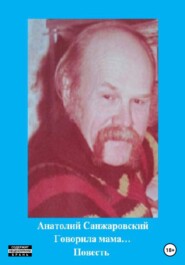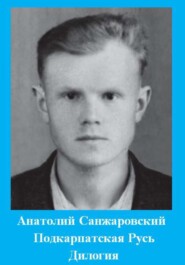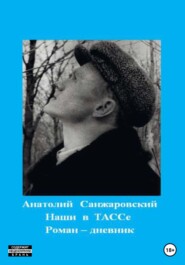По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пешком через Байкал
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну послушай тогда, язёвый лоб! – горячечно выпалил Борис, победным жестом указывая на филировавшего в сторонке парня, готового вот-вот прыснуть, и одновременно требуя от того прибавки в эффекте.
Все вокруг грохнули над розыгрышем.
А предыстория тут такая…
Ангарский исток (он совсем возле), верстовым валом выкатывающийся из Байкала, даже в рассамые клящие холода не мёрзнет, парует, вот и – уж чего-чего, а рачков, рыбьей мелочёвки невпроворот, – вот и кормятся там зимним днём политые жиром утки. А в ночь их нет на воде, нет на берегу. Где же ночуют? Как вызнать?
Ученые к ребятам.
Мол, выхо?дите вы потемну, солнце встречаете на льду. Последите. Может, удастся заметить перелёт с ночёвки. В темноте если не увидите – услышите свист крыльев. Для начала хоть бы выяснить, откуда, с какой стороны несёт их к воде… Понаблюдайте…
– Третий март наблюдаем, да пусто всё пока, – с грустью заключил Борис.
А тем временем Генка слушал вполуха и с весёлым старанием уписывал за обе щёки. Ел проворно, будто боялся, что отнимут.
"У такого в Крещенье не выпросишь средь Байкала и комочек льда…"
– А ты чего сухомятом? – поднялся он ко мне с вопросом. – Чего не запиваешь?
– Жду, когда кинешь в котел свой копёж.
– Какой еще копёж?
– Обыкновенный. Всю ж дорогу грёб в склянки снег, лёд, я и посчитай, великий чаёвник начальник мой, со всего Байкала ароматы копит. Тот-то, думал, царский сочинит чай на обед. А на поверку, снежок с ледком в общежитие потащишь? В запасец?
– Потащу! – с гордоватой готовностью рубнул Генка. В голосе такая ясность, такая сила, такая власть – взлез, окорачил малый надёжного конька своего. – Это такая бомбочка под этих друзей! – кинул взор на скорбно черневшие вдалине с берега гривастые ликующие трубы целлюлозно-бумажного комбината и теплоэлектроцентрали. – Это ж такая бомбочка, такая… Будут знать! Как аварийные воды гнать в море. Как дымку подпускать…
Тугие пряди панихидной мглы неприкаянно суматошились над трубами.
Генка смотрел, как мгла траурно задёргивала чистый горизонт, и в лице у него потерянно толклись разом и вызов, и растерянность, и вина, и сомнение, и полунадежда; сама собой судорога собирала, сводила пальцы в стальные кулаки.
Давно-давно, в малые ещё года – был он не выше дедовой палки, – с берега на берег видимы были в ясный час светлые пятнышки окон, перебитых, перечеркнутых рамным крестом.
Стоило кому в Танхое распахнуть – в Листвянке примечали белый нерешительный оскал стеклин.
Любил мальчошка пускать зайчиков, затаённо поводя створкой из стороны в сторону…
Запутались, застряли, потонули его зайчики в двухэтажной комбинатовской мгле: один слой толсто раскатало над водой, другой – над горами.
Кто развеет мглу?
Кто спасёт зайчиков?
Кто поможет им добежать-таки до берега?
Вошёл человек в совершенство лет, но детского горя своего не потерял из памяти, не избыл.
С годами всё круче брало недоумение. Эти трубы тянули в небо при тебе, почему же ты молчал? Нет ли и твоей личной вины, что вот теперь трубы сеют беду?
На защиту Байкала поднялась журналистская рать. Двадцать два года не опускает она своей плети. Износилась, исхлесталась плеть – комбинатовский обух только всё белей да моложе…
Дай волю, внёс бы Генка в Красную книгу Байкал и Жи вое Слово Русское.
14
Язык телу якорь.
Язык – стяг, дружину водит.
Держись за дубок, дубок в землю глубок.
На великое дело – великая помощь.
Не штука сломать, извести непрестанным глумлением и человека, и слово.
Не мы ль, русские, холодные убийцы родного языка своего?
С извеку веков русская лень напару с русским чванством отбирали в элиту не самые лучшие слова, холуйски удобные своей пресной, пустой, трупной нейтральностью, мертвечиной; а не всякое ли живое, как душа сама русская, а не всякое ли бойкое, меткое ли словечушко сценялось до бескультурья, до проказы и боже упаси в письмо его ввернуть. На каждом клеймо: это устарелое, это областное, это просторечное, это местное, это жаргонное.
Боже, да по какому закону вершилась эта сортировка? Эти-де элита. Вам прямо по ковровому большаку в литературу! А эти-де сор. Не пущать!
Наши отчичи, наша дедичи со старины несли нам в бережи экое счастье, а мы поганые носины вбок: круто намешано русского духу, негоже нам.
И от сколького отмахнулись уже!
В Далевском словаре двести двадцать тысяч слов.
Двести двадцать!
У Пушкина вдесятеро бедней. Под метёлочку нагреблось всего-то двадцать одна тысяча двести девяносто. (Пушкин печалился Далю: "Да, вот мы пишем, зовёмся тоже писателями, а половины русских слов не знаем!") Хороша ж половина…
У Шекспира уже двенадцать тысяч.
А до дуру перекормленный ныне «цивилизацией», наблещённьй ею горожанин ублаготворяется всего-то лишь тремя тысячами…
С двухсот двадцати тысяч скачнуться на три…
Есть Черная книга, куда занесены исчезнувшие растения, звери, птицы.
Есть Красная книга, куда занесены исчезающие растения, звери, птицы.
Но воистину самое тёмное место – под свечой!
Человек помнит, что он уничтожил, и своей Черной книгой он, лицемерный, отдал панихидную дань своей жестокости.
Дань данью – пришлось составлять и Красную книгу!
Наловчился человек тихомолком грешить и на весь свет потом каяться. А не лучше было бы, если б ему не в чем было каяться?