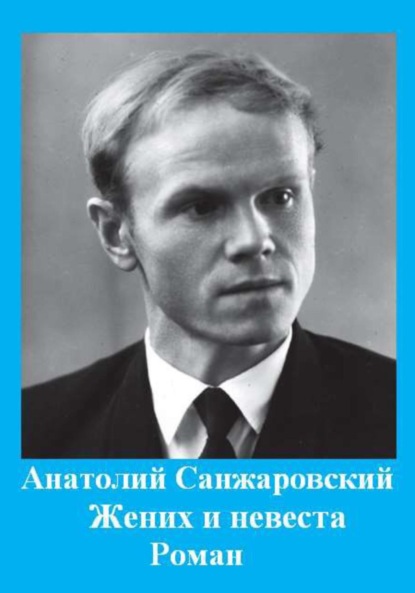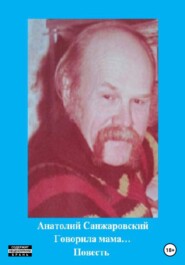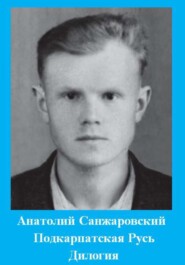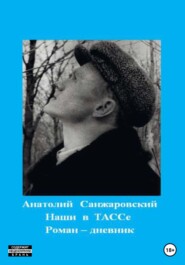По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жених и невеста
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как могу, так и несу. А к бабскому сословию мы, мужики, на поклон не пойдем, – и жмётся бритой, не в первый ли раз в жизни надушенной щекой к маленькому.
Маленький играет себе глазками, а мы лыбимся, будто тебе какие малахольные, незнамо где подгулялые.
Вот на Рассветной завиднелся плетень, бок отцова подворья. Валера клонит голову к конверту.
– Др?жа, это, знаете-понимаете, хорошо, что ты смеешься. Да пора и за дело… Распишитесь в получении первого боевого задания. Поздоровкайся с дедуней… Так ты поздоровкаешься? А?
Я заглядываю в конверт.
Маленький знай помалкивает себе.
– Сыну, ты мне всю панихиду ломаешь, – не без сердца уже говорит в таких словах Валера и косится на ближнее окно моих стариков. – Понимаешь, многострадальный дедуся на боевом наблюдательном пункте, – отец и в самом деле выглядывал из-за занавески. – Так спеши ж, ядрышко моё чистое, поздоровкаться. Заплачь!.. Запой!
Но маленький наш не спешил. Всё молчал, играл себе глазками, словно помимо этого ничегошеньки-то другого и не мог.
Валера сглотнул, стал втихую дуть маленькому в лицо.
Маленький насуровился, круто повёл плечишком и заплакал. Звончатый, бунтовской голос вспорол тишину.
Почитай в тот же миг на крыльце просёкся отец. Босой, в рубахе поверх штанов, сунулся бегом к калитке.
– А доченька!.. А сыночек!.. А внучок!..
Выбросил в мольбе руки вперёд, Валера и подай пузырика.
– У всякого, – рокочет отец, в большой радости вскинул наше зернятко перед собой, – свой сын по локоть в серебре! Во лбу ясный месяц! В затылке часты звёзды! – Он скоком обкрутился, держа на вытянутых ручищах мальчика и показывая его на все стороны. – Добрый сыновец – всему свету завидище!
«Эко взыграла душа у старого…» – с грустью подумала я.
– А дражните, дражните-то как? – шлёт в улыбке вопрос. – Ну что – в нос те колечко! – плечьми дёргаете? Назвали, назвали малечу как, спрашиваю.
Мы с Валерой переглянулись.
Я всегда поважала отца; и когда почувствовала, что наладилась тяжелеть, я сказала Валере, как там ни крутани потом жизнёнка, а будь у меня первенькой хлопчик, в обязательности назовем по отцу. Михаилом.
Валера положил мне согласность.
Сейчас я спрашивала Валеру глазами, помнит ли он про наш уговор.
Сперва Валера вроде того и не понимал моего долгого безотрывного взгляда. После с корильным смешком шлёпнул себя в слабости, не больней, как муха крылом, по лбу подушками пальцев, ответил родителю:
– Мишаней… Мишаткой назвали…
– Шутки шутите!
Отец пустился гонять удивлённо-сердитые глаза с меня на Валеру, с Валеры опять на меня.
– А на что нам шутить? – Валера это. – Мы всё ладим серьёзно.
– Оно-то и хорошо, что серьёзко! Только на кой дитю моё подлючкино имя пришпиливать? Это ж сказать… Только из-за меня… За месяц друг дружке слова живого не послали… В сам деле… Совстренемся где на улице – рраз друг к дружке горшками. Мол, не знакомы и не ж-жалам! Ну а на что было заваривать такую тесноту – свару? А скоко слёз лито?.. – и повинно косится на меня.
– Слёзы, па, – говорю я, – у русачек без переводу. Такое добро… На потоп хватит. Были вчера, сыщутся и назавтре, ежель как прищучит…
– Да что его вспоминать? – встрял Валера. – В житейском котле все перетолчётся…
– А куда ж денется? Перетолкётся… – соглашается отец. Он строит козу мальчику, спрашивает с весёлостью в голосе: – А на какую фамильность героя припишете этого?
Расплох любого губит.
Мы как-то ещё и не думали вовсе об этом.
– Ну что друг на дружку уставились молчаком? – наседает без злости. – По бумажкам вы всё чужие?
– Вы ж против, – кольнула я.
– Видали, я против и – ша, земля стала! А ты б положила делу свой ум. Не побежала ж перед своим потаённым подвигом за советом ко мне – не померла. Откинула б мой запрет – не помер бы и я. Не всяко, дочка, пустое стариково слово ладь в строку. Оно, вишь ли, всякий старец о-оченно горазд в свой ставец… Дед спуста брыкается. А тут… Вот что, соколятки… Не нравится вам наша церква, ну и Господь с ей. Поняйте в свою церкву – в загс. Абы и у вас, и у Мишатки был полный в бумажках глянец. Бумажка что? Дунь – нету! А в свою времю силу какую ещё явит!.. Да ну что я, старый пёс, забрехался у калитки? Явите божескую милость, пожалуйте в хату на чашку чаю. Вас там мать что ждёт. Как Бога!
8
Чей день завтра, а наш ноне.
Загорелись мы с Валерой исполнить отцову волю в тот же день, как вернулась я из родилки. Да сам отец и сбей всю нам охоту.
– Марьянка, – говорит, – ты хоть матка сама уже, а осталась, как и была, шебутной. Ну куда его сейчас? Ни в какую в Америку тот загс от вас не удрапает. А ты первое дело – приди в себя. Небось ослабла вся. Того и гляди, в подворотне ветром в лужу сдует.
– Ну-у… Тоже наскажете…
– И скажу, раскидай тя в раны! Мысленное ль дело… Ты, девонька, не веточку сломила. Соколёнка принесла! А после родов, знаешь, ещё сколь дней баба в гробу стоит – так плоха?
– Это я плоха?
– Мне лучше знать.
– Ну, разве что так…
Не поймал отец подковырки моей.
На своей стоит кочке:
– Отдохни с недельку-две. А там и ступайте с Богом.
Прошла неделя, отошли две, месяц ушёл – никуда мы ни с Богом, ни без Бога так и не выбрались. Некогда всё за домашней колготнёй, некогда за певуном нашим.
Я сижу с маленьким. А мамушка припоглядывает за мной. Боится, а ну вдруг что не то да не так почну делать, всё наказывает:
– Ребятёнок растёт в день на одну мачинку[5 - Мачинка – маковое зёрнышко.], в год на ладонь. А всяк раз, как мать ударит его по голове, он на мачинку сседается. Оттого упрямые росточком бедны.
– Хорошая мать и бия не бьёт… Не бойсе, я не бью. У меня не ссядется до веника.