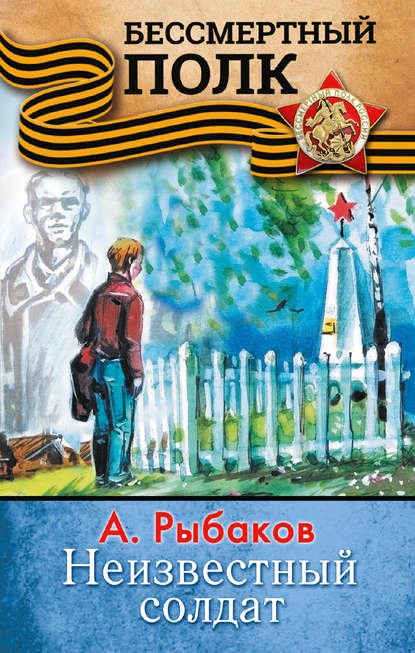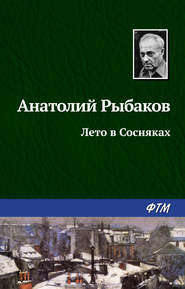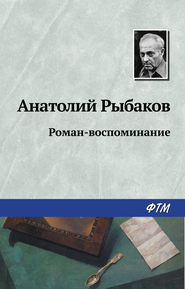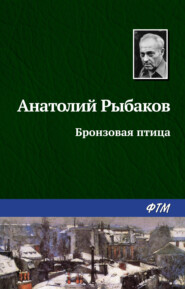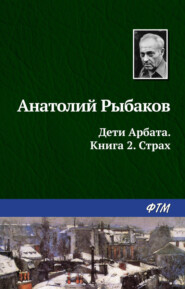По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Неизвестный солдат
Жанр
Год написания книги
1970
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Козы боюсь, бодается, – засмеялась она.
– Рядовой Огородников! – распорядился Бокарев. – Отвязать козу и препроводить в населенный пункт.
6
Почему именно я должен ходить по домам? Спрашивать, чей покойник на дороге? Могли послать того же Юру на машине, с запиской в военкомат. Хозяина могилы все равно не найдешь. Нет никакого хозяина, все заросло травой. Воронов нарочно дал мне такое нелепое поручение. Повозись, мол, брат, походи, здесь на трассе ты особенно не требуешься. И стыдно перед дедушкой: сразу поймет, на каком я тут положении – мальчик.
Но дедушка отнесся к этому делу нормально.
Он сидел против меня. Смотрел, как я рубаю творог со сметаной со здоровенным кусищем хлеба. Морщинки собрались в уголках его глаз; он улыбался моему молодому, здоровому аппетиту. Мне нравится такая старость – мудрая, умиротворенная. Человек не суетится, мало думает о себе, а больше о других, спокоен и доброжелателен. И наоборот, очень не нравятся нервные, раздражительные, беспокойные старики.
– Солдатских могил тут много, – сказал дедушка. – В сорок втором немцы прорвались на юг, на Сталинград и на Кавказ. Бои были тяжелые. Какие могилы раскопали, перенесли в братские, обелиски поставили, – видел, наверно… А эта могила, значит, осталась. И хозяин, видно, был: по штакетнику можно судить, кто их в войну ставил, эти штакетники! Кто-то ухаживал, только, может быть, умер уже. Ладно, не горюй, я похожу, поспрашиваю.
Получилось как в сказке: дедушка ушел порасспрашивать, а я лег спать. Проснулся, когда было уже совсем темно. В окне виднелись огни соседских домов. Было слышно, как дедушка возится на кухне, с кем-то разговаривает.
Я не стал прислушиваться. Мне неинтересны люди, посещающие дедушку, такие же пенсионеры, как и он, старики и старухи. Он знакомил меня с ними, представлял их важными, значительными, даже выдающимися людьми. Тот – генерал в отставке, чуть ли не принимал капитуляцию Германии. Другой – бывший директор завода, конечно, самого большого в СССР. Эта старая большевичка чуть ли не с самим Лениным работала. Но эти выдающиеся знаменитости обсуждали что-то мелкое, житейское, незначительное, свои заботы, хвори, неудачи. Все это обсуждалось у дедушки. Потом дедушка надевал фуражку и отправлялся по учреждениям. Ходил, хлопотал, устраивал больных в больницу, детишек в ясли и детские сады, добивался пересмотра дела в суде, всяких там переселений и улучшений бытовых условий. Хотя сам был не моложе своих просителей, даже старше. Но был здоров, не признавал врачей, от всех болезней сам употреблял и другим рекомендовал гнилые яблоки.
Я встал, включил свет, побегал на месте, разминаясь.
Между тем дедушка проводил своего посетителя и вошел в комнату:
– Отоспался? Нет? Поужинай и снова ложись. Гречневую кашу как предпочитаешь? С молоком, с маслом?
Я предпочел и с молоком и с маслом.
Пока я уминал кашу, дедушка рассказывал:
– Есть такие сведения, будто на могилу при дороге ходила женщина, Смирнова Софья Павловна, живет на улице Щорса, дом десять, – это новые наши дома. Думал я к ней зайти, да неловко через третьи руки. Сам поговоришь – отчитаешься перед начальством.
Я посмотрел на часы – половина десятого.
– Сейчас, пожалуй, поздно.
– Поздно. Завтра с утра сходи.
Утром я не слишком торопился. Рабочий день пропал, на трассу я уже не поеду. Пришел я в новые панельные дома часам к двенадцати. Они выглядели довольно нелепо среди огородов и старых дровяных сараев. Дети играли на деревянных мостках, сушилось белье.
И маленькая квартирка, в которую я попал, тоже производила впечатление деревенского быта, втиснутого в городской дом. На полах цветастые дорожки. На нитках сушатся грибы. Ведра на скамейке прикрыты плавающими в воде круглыми деревянными крышками. Пахнет капустой и солеными огурцами. В комнате громадный сундук, окованный железом. И как единственный знак современности – громадный телевизор марки «Рубин» старого выпуска.
Перед телевизором сидела старая, грузная женщина, с толстыми, отекшими ногами. Она вопросительно посмотрела на меня. Я объяснил ей причину своего прихода.
– Ходили мы с подругами на могилу, – ответила Софья Павловна, – и в войну и после войны ходили, потом померли подруги мои, осталась я одна; тоже ходила, а теперь совсем больна стала, не двигаются ноги, в магазин спуститься и то проблема.
И снова воззрилась на телевизор. На экране элегантные молодые люди и девушки показывали танцевальные фигуры. Их комментировал еще более элегантный инструктор: «Дамы делают полуоборот направо, кавалеры – полуоборот налево…»
– В безвозвратно прошедшие годы, – вздохнула Софья Павловна, – была я большая любительница до танцев, обожала танцы – вальс, краковяк, падеспань. Призы брала.
– А фокстрот, чарльстон, шейк? – поинтересовался я.
– Все как есть танцевала, – ответила Софья Павловна, – курсов не кончала, да и не было в мое время ни курсов, ни телевизора – телевизор еще не изобретен был, – а я лишь посмотрю, как люди танцуют, и весь танец понимаю.
«Может быть, и правда в ней погибла великая исполнительница модных танцев…» – подумал я.
Сверху послышался топот.
– Кругом люди, – продолжала Софья Павловна, – а я одна. Ночью во всех углах трещит, а что трещит – не пойму.
– Сверчок, – предположил я.
– О сверчке я даже мечтаю. Не знаю только, как достать, – ответила старуха, глядя на меня как будто с надеждой: нет ли у меня сверчка?
Это выглядело смешно и грустно.
– А как фамилия солдата, кто он такой? – спросил я.
– И, милый… Кабы знала я его фамилию. Нету у него фамилии. Знаем только: закидал гранатами немецкий штаб, разгромил вчистую.
Я с удивлением посмотрел на нее. Такой героический поступок не мог остаться неизвестным. А вот никто, кроме нее, о нем не знает. Выдумывает, наверно. Выдумывает, что танцевала шейк, которого тогда и в помине не было. О сверчке мечтает.
– Пригнали нас ночью, – продолжала между тем Софья Павловна, – он ничком лежал; выкопали мы яму, они его туда и спихнули. Мужчина был представительный, высокий – яму длинную копали… Ходили мы с подругами, и одна я ходила, а теперь душа болит: лежит один в чистом поле, а что делать? Найдутся, думаю, добрые люди, доглядят. Школьники вот… Какие вещи после него остались, все им передала.
Она тяжело поднялась, подошла к окну, выглянула в него, крикнула:
– Дора Степановна, а Дора Степановна… Наташка твоя дома? Пусть зайдет, скажи…
Она вернулась, опустилась на стул.
– Вот Наташка тебе и покажет, ей все отдала.
Разговор с какой-то Наташкой совсем не входил в мои планы. Нет фамилии, нет документов, и фактически нет хозяина могилы. Так и доложу Воронову.
– Нет, зачем, – сказал я, вставая, – мне ведь только узнать надо было насчет могилы. Мы ее перенесем на другое место.
– А ты поинтересуйся, – сказала Софья Павловна, – может, школьники узнали его фамилию. У них ноги молодые. А я что? Ходила тут к одному, к Михееву, сады богатые держит: у него в войну солдат наш раненый от немцев прятался. Ходила к Агаповым – у них тоже был наш солдат. Никто ничего не знает – были солдаты и ушли. А больше и ходить не к кому было.
Я досадовал на старуху: зачем мне школьники? Но уходить было неудобно. Я сидел и ждал, когда явится Наташа.
А старуха смотрела телевизор. Танцы сменились передачей для детей, а она все смотрела.
Наконец дверь открылась. Появилась Наташа.
Честное слово, никогда не думал, что в Корюкове, да еще в этих панельных домах, есть такие девочки!
7
И вот мы с Наташей идем по пустой школе. Шаги наши гулко отдаются в пустом коридоре. Справа – громадные окна, в их стекла бьет яркий солнечный свет. Слева – закрытые двери классов. Чудится, будто там идут уроки, хоть знаешь, что никаких уроков нет.
Мы спустились по короткой боковой лестнице и очутились перед дверью, на которой било написано: «Штаб рейда "Дорогой славы отцов"». В моей школе не было такого штаба и не было такого рейда. Я знал об их существовании, но видел впервые.
– Рядовой Огородников! – распорядился Бокарев. – Отвязать козу и препроводить в населенный пункт.
6
Почему именно я должен ходить по домам? Спрашивать, чей покойник на дороге? Могли послать того же Юру на машине, с запиской в военкомат. Хозяина могилы все равно не найдешь. Нет никакого хозяина, все заросло травой. Воронов нарочно дал мне такое нелепое поручение. Повозись, мол, брат, походи, здесь на трассе ты особенно не требуешься. И стыдно перед дедушкой: сразу поймет, на каком я тут положении – мальчик.
Но дедушка отнесся к этому делу нормально.
Он сидел против меня. Смотрел, как я рубаю творог со сметаной со здоровенным кусищем хлеба. Морщинки собрались в уголках его глаз; он улыбался моему молодому, здоровому аппетиту. Мне нравится такая старость – мудрая, умиротворенная. Человек не суетится, мало думает о себе, а больше о других, спокоен и доброжелателен. И наоборот, очень не нравятся нервные, раздражительные, беспокойные старики.
– Солдатских могил тут много, – сказал дедушка. – В сорок втором немцы прорвались на юг, на Сталинград и на Кавказ. Бои были тяжелые. Какие могилы раскопали, перенесли в братские, обелиски поставили, – видел, наверно… А эта могила, значит, осталась. И хозяин, видно, был: по штакетнику можно судить, кто их в войну ставил, эти штакетники! Кто-то ухаживал, только, может быть, умер уже. Ладно, не горюй, я похожу, поспрашиваю.
Получилось как в сказке: дедушка ушел порасспрашивать, а я лег спать. Проснулся, когда было уже совсем темно. В окне виднелись огни соседских домов. Было слышно, как дедушка возится на кухне, с кем-то разговаривает.
Я не стал прислушиваться. Мне неинтересны люди, посещающие дедушку, такие же пенсионеры, как и он, старики и старухи. Он знакомил меня с ними, представлял их важными, значительными, даже выдающимися людьми. Тот – генерал в отставке, чуть ли не принимал капитуляцию Германии. Другой – бывший директор завода, конечно, самого большого в СССР. Эта старая большевичка чуть ли не с самим Лениным работала. Но эти выдающиеся знаменитости обсуждали что-то мелкое, житейское, незначительное, свои заботы, хвори, неудачи. Все это обсуждалось у дедушки. Потом дедушка надевал фуражку и отправлялся по учреждениям. Ходил, хлопотал, устраивал больных в больницу, детишек в ясли и детские сады, добивался пересмотра дела в суде, всяких там переселений и улучшений бытовых условий. Хотя сам был не моложе своих просителей, даже старше. Но был здоров, не признавал врачей, от всех болезней сам употреблял и другим рекомендовал гнилые яблоки.
Я встал, включил свет, побегал на месте, разминаясь.
Между тем дедушка проводил своего посетителя и вошел в комнату:
– Отоспался? Нет? Поужинай и снова ложись. Гречневую кашу как предпочитаешь? С молоком, с маслом?
Я предпочел и с молоком и с маслом.
Пока я уминал кашу, дедушка рассказывал:
– Есть такие сведения, будто на могилу при дороге ходила женщина, Смирнова Софья Павловна, живет на улице Щорса, дом десять, – это новые наши дома. Думал я к ней зайти, да неловко через третьи руки. Сам поговоришь – отчитаешься перед начальством.
Я посмотрел на часы – половина десятого.
– Сейчас, пожалуй, поздно.
– Поздно. Завтра с утра сходи.
Утром я не слишком торопился. Рабочий день пропал, на трассу я уже не поеду. Пришел я в новые панельные дома часам к двенадцати. Они выглядели довольно нелепо среди огородов и старых дровяных сараев. Дети играли на деревянных мостках, сушилось белье.
И маленькая квартирка, в которую я попал, тоже производила впечатление деревенского быта, втиснутого в городской дом. На полах цветастые дорожки. На нитках сушатся грибы. Ведра на скамейке прикрыты плавающими в воде круглыми деревянными крышками. Пахнет капустой и солеными огурцами. В комнате громадный сундук, окованный железом. И как единственный знак современности – громадный телевизор марки «Рубин» старого выпуска.
Перед телевизором сидела старая, грузная женщина, с толстыми, отекшими ногами. Она вопросительно посмотрела на меня. Я объяснил ей причину своего прихода.
– Ходили мы с подругами на могилу, – ответила Софья Павловна, – и в войну и после войны ходили, потом померли подруги мои, осталась я одна; тоже ходила, а теперь совсем больна стала, не двигаются ноги, в магазин спуститься и то проблема.
И снова воззрилась на телевизор. На экране элегантные молодые люди и девушки показывали танцевальные фигуры. Их комментировал еще более элегантный инструктор: «Дамы делают полуоборот направо, кавалеры – полуоборот налево…»
– В безвозвратно прошедшие годы, – вздохнула Софья Павловна, – была я большая любительница до танцев, обожала танцы – вальс, краковяк, падеспань. Призы брала.
– А фокстрот, чарльстон, шейк? – поинтересовался я.
– Все как есть танцевала, – ответила Софья Павловна, – курсов не кончала, да и не было в мое время ни курсов, ни телевизора – телевизор еще не изобретен был, – а я лишь посмотрю, как люди танцуют, и весь танец понимаю.
«Может быть, и правда в ней погибла великая исполнительница модных танцев…» – подумал я.
Сверху послышался топот.
– Кругом люди, – продолжала Софья Павловна, – а я одна. Ночью во всех углах трещит, а что трещит – не пойму.
– Сверчок, – предположил я.
– О сверчке я даже мечтаю. Не знаю только, как достать, – ответила старуха, глядя на меня как будто с надеждой: нет ли у меня сверчка?
Это выглядело смешно и грустно.
– А как фамилия солдата, кто он такой? – спросил я.
– И, милый… Кабы знала я его фамилию. Нету у него фамилии. Знаем только: закидал гранатами немецкий штаб, разгромил вчистую.
Я с удивлением посмотрел на нее. Такой героический поступок не мог остаться неизвестным. А вот никто, кроме нее, о нем не знает. Выдумывает, наверно. Выдумывает, что танцевала шейк, которого тогда и в помине не было. О сверчке мечтает.
– Пригнали нас ночью, – продолжала между тем Софья Павловна, – он ничком лежал; выкопали мы яму, они его туда и спихнули. Мужчина был представительный, высокий – яму длинную копали… Ходили мы с подругами, и одна я ходила, а теперь душа болит: лежит один в чистом поле, а что делать? Найдутся, думаю, добрые люди, доглядят. Школьники вот… Какие вещи после него остались, все им передала.
Она тяжело поднялась, подошла к окну, выглянула в него, крикнула:
– Дора Степановна, а Дора Степановна… Наташка твоя дома? Пусть зайдет, скажи…
Она вернулась, опустилась на стул.
– Вот Наташка тебе и покажет, ей все отдала.
Разговор с какой-то Наташкой совсем не входил в мои планы. Нет фамилии, нет документов, и фактически нет хозяина могилы. Так и доложу Воронову.
– Нет, зачем, – сказал я, вставая, – мне ведь только узнать надо было насчет могилы. Мы ее перенесем на другое место.
– А ты поинтересуйся, – сказала Софья Павловна, – может, школьники узнали его фамилию. У них ноги молодые. А я что? Ходила тут к одному, к Михееву, сады богатые держит: у него в войну солдат наш раненый от немцев прятался. Ходила к Агаповым – у них тоже был наш солдат. Никто ничего не знает – были солдаты и ушли. А больше и ходить не к кому было.
Я досадовал на старуху: зачем мне школьники? Но уходить было неудобно. Я сидел и ждал, когда явится Наташа.
А старуха смотрела телевизор. Танцы сменились передачей для детей, а она все смотрела.
Наконец дверь открылась. Появилась Наташа.
Честное слово, никогда не думал, что в Корюкове, да еще в этих панельных домах, есть такие девочки!
7
И вот мы с Наташей идем по пустой школе. Шаги наши гулко отдаются в пустом коридоре. Справа – громадные окна, в их стекла бьет яркий солнечный свет. Слева – закрытые двери классов. Чудится, будто там идут уроки, хоть знаешь, что никаких уроков нет.
Мы спустились по короткой боковой лестнице и очутились перед дверью, на которой било написано: «Штаб рейда "Дорогой славы отцов"». В моей школе не было такого штаба и не было такого рейда. Я знал об их существовании, но видел впервые.