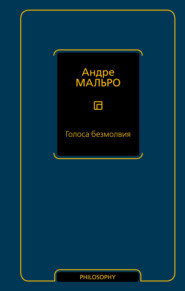По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голоса тишины
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рубенс и жирные ломаные арабески его эскизов, Халс и его упрощённые руки пророка современного искусства, Гойя и его чисто чёрные пятна, Делакруа и Домье с их яростными толчками – казалось, они стремились появиться на своих полотнах подобно мастерам примитива, которые к лицам дарителей добавляли свои собственные. Их страстная манера была своего рода подписью. А художники, ставившие такую подпись, кажется, предпочитали саму материю живописи материи изображаемой.
Но манера и материя по-прежнему служили изображению. В последних полотнах Тициана и Тинторетто манера их письма подчинена драматическому лиризму, у Рембрандта тоже, но только лиризму внутреннему. Делакруа не без угрызений совести предаётся гениальной манере потрясённого Рубенса. Нередко дальше всех идёт Гойя; но Гойя минус его голоса и часть теней, доставшихся от музея, – это уже современное искусство.
Существовала также манера Гварди и Маньяско. Неистовая манера лучших произведений Маньяско, словно ощетинившихся восклицательными знаками, кажется, повинуется какому-то световому потоку, который едва ли не задевает предметы и персонажей (этот косой свет Энгр находил несовместимым с достоинством искусства…). Он служит ему, даже если этот свет не иносказательный, – кисть художника следует за ним. Каков бы ни был при этом успех ослепительной итальянской трагикомедии, видны её пределы, установленные нормами, которые эта трагикомедия требует от художника в сценах инквизиции.
Оноре Домье. «Любители», 1865–1868 гг.
Современное искусство вынесет из всего этого только одно: независимость художника. Поэтому свет – не главная его забота. (Кстати, действительно ли «Олимпия» и «Флейтист» освещены в фас?). То, что на языке ателье тогдашних художников называлось «мастерством», заменяет здесь «верность передачи». Говорилось, что Мане не умел написать ни одного сантиметра кожи, что «Олимпия» написана будто проволокой: при этом забывалось, что, прежде чем пожелать создать «Олимпию» или выписать человеческую плоть, он хотел писать картины. Розовый пеньюар «Олимпии», малиновый балкон «Бара Фоли-Бержер», голубая ткань «Завтрака на траве», разумеется, – цветовые пятна, чья материя – живописная, а не изображаемая. Картина, фоном которой была дыра, становится поверхностью. Самые яркие эскизы Делакруа представляли ещё драматизацию; то, что Мане предпринимает в некоторых своих полотнах, – есть живописание мира.
Ибо если дело дошло до того, что кисть художника обрела такую независимость, какой отныне она будет домогаться, то это всегда служило какой-нибудь страсти, для которой живопись была только средством. «Мир создан ради того, чтобы закончиться прекрасной книгой», – говорил Стефан Малларме; тем более, он создан для того, чтобы привести к этим картинам.
Отсюда связь между всеми великими новыми произведениями и удивительной историей идеологии импрессионизма. Соотношение между теориями и произведениями нередко из области прихоти, настроения. Художники теоретизируют о том, что они хотели бы сделать, но делают то, что могут; и их возможности, подчас слишком слабые для их теорий, иногда сильнее последних. Произведение, более соответствующее предисловию к драме «Кромвель», конечно, не «Рюи Блаз», а, вероятно, «Благовещение»[126 - По-видимому, дело не в том, что Мальро отрицает соответствие драмы Виктора Гюго «Рюи Блаз» (1838 г.) такому блестящему манифесту романтизма, как его Предисловие к драме «Кромвель» (1827 г.), и, напротив, видит такое соответствие в драме Поля Клоделя «Благовещение» (L’Annonce faite a Marie, 1912). Кстати, он забывает, что в Предисловии Виктора Гюго к «Рюи Блазу», его размышлениях о философии истории, как и у Клоделя в «Благовещении», содержатся идеи о дуализме мира, отмеченные христианством, вполне естественные для католического писателя, каковым являлся П. Клодель.]. Теории Курбе ничтожны в сравнении с его живописью. В то самое время, когда, подобно взломщику, ворвался Мане, импрессионизм утверждает свои достоинства ради более близкого согласия со зрелищем, – словно он стремится быть пленэром, улучшенным оптикой: Сезанн, вскоре Гоген, Сёра, Ван Гог создают искусство, стилизованное более, чем когда-либо со времен Эль Греко. Теоретики импрессионизма провозглашали, что живопись адресована прежде всего взору; только теперь картина передаётся взору в большей мере как картина, чем как пейзаж. По мере того, как менялось отношение между художником и тем, что он называл натурой, теоретики оформляли применительно к натуре то, что художники делали в живописи (не всегда предумышленно, но всегда потрясающе неукоснительно). Главным было не то, что берега Сены были похожими на берега больше у Сислея, чем у Теодора Руссо. Новое искусство стремилось перевернуть отношения между предметом и картиной, подчинить предмет картине. Нужно было, чтобы пейзаж покорился так, как Клемансо схематизировался на своём портрете. Признавать значение только видения означало порывать с музеем, которому пейзаж был подчинён в знании и идее, имевшихся на этот счёт у человека. Задний план импрессионистического пейзажа был не изображением, а аллюзией, и он весьма отличался от заднего плана у Леонардо; в сущности, дело было вовсе не в том, чтобы созерцать зрелище обострённо, чтобы его достоверно воспроизвести, но в том, чтобы извлечь из этого видения более яркую живопись. Мане родился в 1832-м, Писсарро в 1830-м, Дега в 1834-м; за два года, с 1839-го по 1841-й, родятся Сезанн, Сислей, Моне, Роден, Редон, Ренуар: для каждого из них мир станет ослепительным средством самовыражения. Цель, острота видения которой – лишь способ, состоит в трансформации вещей в автономном изобразительном, логичном и особом универсуме. Вскоре начнёт писать Ван Гог. Изображение мира сменялось его аннексией.
Винсент Ван Гог. «Стул Винсента», 1888 г.
Неверно, что современное искусство представляет собой «предметы, увиденные и пропущенные через некий темперамент», ибо ложно, что это способ видения. Гоген не видел предметы наподобие фресок, Сезанн не видел их наподобие объёмов, Ван Гог – как кованую сталь. Современное искусство есть присвоение форм через внутреннюю систему, которая принимает или не принимает форму лиц и предметов, при этом лица и предметы – только выражение, экспрессия. Изначальная воля современного художника направлена на то, чтобы всё подчинить своему стилю, подчинить, прежде всего, самый необработанный, голый предмет. Его символ – «Стул Винсента с трубкой» Ван Гога.
Не стул голландского натюрморта, ставший благодаря антуражу и свету одним из элементов того покоя, с которым Нидерланды периода упадка заставили считаться любые вещи, а отдельно взятый стул (вряд ли напоминание о жалком отдыхе) как идеограмма самого имени Ван Гога. Наконец, вспыхивает скрытый конфликт, с давних пор противопоставлявший художника и вещи.
Современный пейзаж всё меньше и меньше напоминает то, что до сих пор называлось пейзажем, ибо исчезнет земля; современный натюрморт всё меньше и меньше становится тем, что до сих пор называлось натюрмортом. Покончено с бархатистостью персиков Шардена; у Брака бархатист уже не персик, а – картина.
Покончено с медью, всяким хламом и кухней, со всеми предметами, оживляемыми светом; натюрморт, отбрасывающий голландскую сверкающую стеклянную посуду, найдёт пачки с табаком Пикассо. Натюрморт Сезанна по сравнению с голландским натюрмортом – то же, что ню Сезанна по сравнению с ню Тициана. Хотя пейзаж и натюрморт – со всеми ню и лишёнными индивидуальности портретами, которые сами являются натюрмортами – и становятся доминирующими жанрами, это не потому, что Сезанн любит яблоки, а потому, что на картине Сезанна, изображающей яблоки, есть больше места для Сезанна, чем его было для Рафаэля в портрете Льва X.
Питер Пауль Рубенс. «Жертвоприношение Авраама», 1600–1608 гг.
Я слышал, как один из великих художников нашего времени говорил Модильяни: «Если ты пишешь натюрморт, как тебе хочется, любитель в восторге, пишешь пейзаж, – он опять же в восторге, если ню, – он начинает кривить физиономию; если его жену… то смотря по обстоятельствам; но если ты садишься писать его портрет и на беду тронешь его морду, – ну тогда, старина, увидишь, как он подскочит!» Только в отношении собственного лица многие люди, даже среди тех, кто любит живопись, начинают осознавать магическую операцию, в результате которой происходит как бы экспроприация в пользу художника. Любой художник, который некогда навязал такое восприятие, современен в нескольких отношениях. Рембрандт – первый мастер, чьи модели иногда боялись увидеть собственный портрет. Единственное лицо, с которым современный художник, как правило, «договаривается», это его собственное, и, глядя на автопортреты, можно предаваться долгим раздумьям… Разрыв с вымыслом, конец воображаемого могли привести только к двум последствиям: или экзальтации абсолютного реализма, относительно которого мы убедимся, что его никогда не существовало, ибо любой реализм ориентирован неким суждением, ради которого он отдаёт свою силу иллюзии; или рождением нового идеала, который стал абсолютным и заявленным освоением того, что художник изображал: метаморфозой мира в картинах.
Когда живопись была средством преображения, последнее, хотя и могло проявляться в портрете, пейзаже (Рембрандт это предостаточно показал), признавало за воображением монаршие права и было связано с глубоким течением вымысла. Довольно представить себе Тинторетто, которому пришлось бы написать три фрукта в компотнице, – и ничего вокруг! – чтобы почувствовать, что присутствие его как художника было бы там подавляющим, и насколько оно было бы очевиднее, чем в барочном изобилии или в пышно поставленном искусстве «Битвы при Заре»[127 - «Битва при Заре» – полотно Тинторетто (1585), заполоняющее всю стену во Дворце Дожей (Венеция), одна из первых исторических картин.]. Ведь ему пришлось бы преобразить фрукты исключительно средствами живописи. Художник никоим образом не перешёл от преображения к капитуляции, но от преображения к аннексии. Потребовалось, чтобы фрукты стали частью его особого универсума, как некогда они были частью преображённого универсума. И неистовство, которое на протяжении веков было неистовством искусства ради того, чтобы извлечь предметы из их естественной среды, чтобы подчинить их божественной способности человека, которая называлась красотой, распространилось на то, чтобы захватить их снова в их естестве, дабы поставить на службу божественной способности человека, которая называется искусством. Яблоки не стали в большей мере яблоками, они стали в большей мере красками; живописный мир, не становясь более вымыслом, должен был стать живописью, и было сделано следующее важное открытие: чтобы стать живописью, надо было, чтобы этот мир сделался особенным.
Если бы ангел-хранитель Рафаэля объяснил ему (но не показал) то, что позднее пришлось делать Ван Гогу, думаю, что Рафаэль прекрасно понял бы, как интересна будет эта неожиданная и рискованная затея для самого Ван Гога. Что его, Рафаэля, заинтриговало бы, так это то, насколько подобный опыт может быть интересен другим. Но так же, как люди давно обнаружили, что существует драматический рисунок, трагическая краска, они уяснили, что сведение мира к индивидуальному изобразительному универсуму, по-видимому, несёт в себе силу, подобную силе стилей, а в ней полно того же рода ценностей для тех, в чьих глазах искусство ценностью обладает.
И стремление аннексировать мир приняло огромные масштабы, сопоставимые в прошлом со стремлением к преображению. Разрозненные формы мира, которые приближались к вере или к красоте, стали сходиться вокруг индивида.
Человек возьмёт на себя бесконечный риск постигать искусство – к тому же недвусмысленно – как ряд творений некоего специфического языка; прозрачные акварели Сезанна подхватят низкий торжественный звук фресок Мазаччо. А изображение вымысла после пятидесяти лет комфортной и вызывающей улыбку агонии чудесно воскреснет и обретёт свою истинную сферу: кино.
Когда живопись перестала открывать новые изобразительные средства, она исступлённо и лихорадочно принялась за поиски движения, словно только движение было наделено отныне убедительной силой, некогда принадлежавшей завоёванным изобразительным средствам. Но не открытие изображения позволяло овладеть движением. То, к чему взывают жесты исчезающих творцов барочного мира, – не модификация образа, а их последовательность; ничего удивительного, что это искусство, богатое жестами и чувствами, находящееся целиком во власти зрелищности, приходит к кино…
Конкуренция на уровне «гражданского состояния» давно проявилась в фотографии. Но чтобы изображать жизнь, фотография, за три десятилетия прошедшая путь от византийской неподвижности к неистовому барокко, всего-навсего вновь столкнулась с проблемами изображения. Она останавливалась там, где ранее останавливалось изображение. Тем более парализованная, что не располагала вымыслом: хотя она и фиксировала прыжок танцовщицы, крестоносцев в Иерусалим не вводила. Однако от изображения лика святых до исторических воспроизведений стремление людей к изображению распространялось как на то, чего они никогда не видели, так и на то, что им известно.
Таким образом, усилия четырёх столетий ради того, чтобы уловить движение, остались в фотографии на той же точке, что и в живописи; кино же, хотя и позволяло снимать движение, подменяло жестикуляцию неподвижную жестикуляцией движущейся. Чтобы продолжить увязшие в барокко великие поиски в сфере изображения, приходилось добиваться независимости камеры по отношению к изображаемой сцене. Проблема состояла не в движении персонажа внутри образа, а в «последовательности планов»[128 - «Планы» меняются, когда кинокамера меняет место. Монтаж созидается из их последовательности: средняя длительность кадров в настоящее время – десять секунд (прим. А. Мальро).]. Она была решена не технически, благодаря совершенствованию аппарата, а художественно – благодаря изобретению монтажа.
Когда кино выступало только средством воспроизведения движущихся персонажей, оно было искусством не более, чем звукозапись или воспроизводящая фотография. На сцене настоящего либо воображаемого театра актёры разыгрывали фарс или драму, которую неподвижный аппарат всего-навсего записывал. Рождение кино как художественного средства начинается с момента его освобождения от этой ограниченности пространства: с того времени, когда мастер по монтажу счёл возможным вместо того, чтобы снимать театральную пьесу, записывать на плёнку последовательность мгновений; приближать свой аппарат (то есть давать персонажей крупным планом на экране), отодвигать его назад; а главное – вместо рабской зависимости от театра, предложить «площадку», пространство, появляющееся на экране, место, куда актёр входит, откуда он выходит, которое режиссёр выбирает, отнюдь не будучи у него в плену. Средство воспроизведения в кино есть движущийся кадр; его выразительное средство – последовательность планов.
Согласно легенде, Гриффит, крайне взволнованный выражением лица одной актрисы, которой он руководил, велел переснять с более близкого расстояния только что взволновавший его фрагмент сцены и, добившись включения в кадр одного только лица женщины, изобрёл крупный план. Этот любопытный случай показывает, в каком направлении развивался талант одного из крупнейших кинорежиссёров на заре этого искусства: как он стремился не столько воздействовать на актёра (например, добиваясь, чтобы тот играл иначе), сколько менять отношения последнего со зрителем (увеличивая его лицо). Самые посредственные фотографы, расставаясь с привычкой фотографировать свои модели «во весь рост», переключались на фотографирование «по пояс» или стали снимать отдельно взятое лицо. Прошли десятилетия с тех пор, как те, кто посмели «обрезать» персонаж «по пояс», трансформировали кино. Ведь когда аппарат и «площадка» были неподвижны, съёмка двух персонажей «по пояс», видимо, требовала снимать так весь фильм, пока не изобрели планы и монтаж.
Итак, кино как искусство восходит к делению на планы, то есть к независимости кинорежиссёра относительно театральной сцены. Он мог затем заняться поиском последовательности знаменательных образов, с помощью отбора восполнять их немоту. Кино переставало быть театральной фотографией, становилось привилегированным выразительным средством вымысла.
Когда оно им стало, прошло полвека, как вымысел и живописный талант разделились. Всякий возврат к прошлому стал невозможен. Внушение, намёк на движение в образах, «выхваченных» Дега, или в скифских абстракциях, в изобразительном искусстве стали служить изображению движения. Утратило смысл соперничество между выразительностью мира и вымыслом мира, чем жило официальное искусство. В мир, очевидно, общий для всех и обретённый кино, ворвались ценности изображения, некогда главные в живописном вымысле: стремление привлекать и волновать, стиль и театральная поэзия, красота персонажей, выражение лиц. В глубине веков далёкая бормочущая маска торжественно танцует в лучах света; прямо перед нами шепчет в заполняемой им тени потрясённое лицо крупных планов.
Освобождение вымысла упрочило влияние, которое великий художник намеревался отныне оказывать на род людской. Никогда в истории один и тот же порыв не порождал творений столь различных, как произведения Домье и Мане, Ренуара, Моне, Родена и Сезанна, Гогена, Ван Гога, Сёра, Руо, Матисса, Брака и Пикассо. Это многообразие нарастало от возрождённых Пьеро делла Франческа и Вермеера до романских фресок и Крита, от полинезийского искусства до великих эпох Китая и Индии, – оно заполняет сегодня покорённую землю. Микеланджело собирал антики, Рембрандт (как он сам говорил) – доспехи и тряпьё; а витрины мастерской Пикассо, пока день за днём публикуется бесконечный ряд его произведений, где иссякает конфликт между художником и формами жизни, – музей варварский. Множественность форм индивидуализма готовила почву для приёма множественного прошлого, когда каждый стиль появляется вновь, как забытый художник. Мастера монастырей Вильнёв и Ноан, Матиас Грюневальд, Эль Греко, Жорж де Латур, Уччелло, Мазаччо, Козимо, Тура, Ленен, Шарден, Гойя («Герцогиня Альба» была продана за 7 ливров в 1850 году), Домье, – одни были открыты, другие поставлены впервые или опять в первый ряд. Все искусства появились вновь, и всё более архаичные: от Фидия до «Коре Евтидикос», а затем до искусства Крита; от ассирийцев до Вавилона, потом шумеров. Все, будто соединённые метаморфозой, которую они претерпевают в области, пришедшей на смену красоте, как если бы раскопки открывали нам одновременно прошлое мира и его будущее.
Если игнорируется история, произведения не входят в воображаемый музей подобно классике, включавшейся в коллекции; они поддерживают с историей сложную связь, которая нередко рвётся, ибо метаморфоза, хотя и одушевляет историю, не касается её так, как она затрагивает произведения искусства. И хотя нам известны другие цивилизации, кроме тех, из которых сложилась европейская традиция, не столько наши знания изменили перспективу, сколько произведения искусства воздействовали на нашу восприимчивость. Ведь последовательные волны возрождения в мире, которое заполняет первый воображаемый музей согласно некоему мировому порядку, ещё нечётко классифицируются. Мы увидели, насколько предчувствие этого порядка, – связанное с открытием, что художественные ценности и ценности цивилизации не обязательно совпадают, – изменило наше отношение к Греции; само наше понимание искусства не менее изменилось, когда трансформация античных статуй предстаёт перед нами в свете совокупности древнего мира; когда на смену умирающему Риму в столкновении с победоносными племенами приходит конфликт умерших Дельф в столкновении с Востоком, Индией, Китаем и нелатинизированным варварским миром. Когда громадная часть нашего художественного наследия передаётся нам то людьми, чьё представление об искусстве отличается от нашего, то теми, для кого не существовала сама идея искусства.
Часть вторая
Метаморфозы Аполлона
I
Когда умер Цезарь, от того, что некогда было символом свободы человека, оставались лишь образы сладострастия или гордыни. XIX век усмотрел их разложение – вместе с распадом империй – в галло-римском искусстве, «регрессивном» искусстве Запада; но сколь бы ни было незавершённым нетерпеливое описание мира, продолжаемое в наше время, оно учит нас тому, что регресс охватил весь античный мир: Галлию, Испанию, Египет, Сирию, Аравию, Гандхару, Бактрию. Регресс есть форма искусства, столь же распространённая, столь же показательная, как и форма, которая начинается с Акрополя в Дельфах и заканчивается незадолго до Константина. Античное искусство одержало побед больше, чем любой завоеватель, соединило империю Цезаря с империей Александра. С крушением человека античности Великий регресс охватил мир от Галлии Нарбоннской[129 - Галлия Нарбоннская – одна из четырёх провинций Римской Галлии, основанная в 27 г. до н. э. императором Августом.] до территорий Средней Азии за Амударьей.
Мы видели, как возрождалась идея «регрессивного» искусства в отношении произведений, казавшихся неумелыми копиями творений какой-нибудь исчезнувшей или распадавшейся цивилизации (возрождалась, ибо с XVI по XVII вв. всё искусство Средневековья понималось как регрессивное). Неумелость не всегда там, где её видели в XVII веке; но если – не без оговорок, – имея в виду великого художника, можно предположить, что он всегда делал то, что хотел делать, уместно ли такое допущение относительно любого скульптора? Время свело едва ли не к примитиву те или иные произведения, которые при их создании слыли виртуозными… Бесспорно, существуют некоторые формы неумелости, но тут речи нет об искусстве. Они – знаки, нередко связанные с элементарными движениями, позволяющими их изображать: нос на многих глиняных ликах далёких времен, сегодня вылепленный из хлебного мякиша, получается от прищипывания пальцами; непритязательная сложность «человечка» – голова, две палки вместо рук, две палки вместо ног, палочки поменьше вместо пальцев, – всё это из той же области, что и пятно или дырка, изображающие глаза. Классическая эпоха сочла, что обнаружила детство в искусствах, отличающихся от её собственного, поскольку полагала, что были искусства в состоянии детства, но не имела понятия об искусстве детей. Кому сегодня придёт в голову путать последнее с романским искусством? Бывают неумелые художники, но нет неумелых стилей.
Крайняя форма регрессивного оригинала, – очевидно, знак. Но он не сохраняется: так что мы никогда не оказываемся перед совокупностью знаков, противопоставленной некоему стилю в целом. И он, знак, тем меньше сохраняется, что нередко эфемерен его материал: подобно тому как египетская статуя нуждается в граните, для знака часто требуются линии, сделанные углём или мелом… Как только знак высекают или лепят, он начинает меняться. В свете пожаров багаудов[130 - Багауды – галльские крестьяне, восставшие против римского владычества в III в., подавленные императором Диоклетианом, а затем Максимианом; вновь появились в V в. в Испании и Галлии и смешались с варварами.] римская форма, которая, кажется, устремлялась к знаку, встречает формы Великих нашествий, а персонажи, изображённые на бургундских[131 - …Персонажи на бургундских поясах… – Бургунды – германские племена, выходцы из Скандинавии, в результате бурной истории и долгих миграций заселившие прибрежные территории Роны и Соны, вплоть до Севенн (юго-восток Франции) и Средиземного моря (см. историю Бургундии). Здесь имеются в виду бронзовые пряжки на поясах, редкие экземпляры ремесленного искусства Галлии (VI в.).] поясах, будут скорее ближе к фетишам, чем к условным знакам цыган. Так что то или иное регрессивное искусство, по-видимому, есть искусство, в котором унаследованные формы, лишённые своего смысла, для нас более заметны, чем разрабатываемые новые формы. Галло-римское искусство регрессивно до тех пор, пока имперские формы в нём более очевидны, чем те, что станут романскими; но если бы была заметна только агония первых, не было бы галло-римского искусства, были бы только галло-римские предметы. Искусство живет тем, что несёт с собой, а не тем, что покидает. Идея его регресса ясна по отношению именно к нему, а не к искусству как таковому: некий стиль, который разлагается на идеограммы, регрессивен; искусство, которое движется в направлении другого стиля (оба движения нередко смешиваются), не регрессивно: ясно, что романское искусство не есть регрессивное античное искусство.
Почти неизвестное искусство кельтских монет гораздо убедительнее, чем многие более известные искусства варваров, и даёт возможность проследить процесс становления стилизованной формы в направлении то регресса, то нового значения. Фотографическое увеличение позволяет впустить их изображения в область, с которой их размеры, сама природа, казалось бы, несовместимы. (После фотографии, которая воспроизводит оригинал, появляется кино, у которого нет оригинала; здесь же оригинал – всего лишь источник увеличения…). Как бы ни была неясна преемственность форм, которые распространились от Англии до Трансильвании, можно веками изучать метаморфозу, которую пришлось претерпеть некоторым греческим монетам. От изображения – к знаку, с одной стороны; от гуманистической выразительности – к выразительности варварской, с другой. Ибо первоосновой этих монет является статер, отчеканенный для Филиппа II Македонского.
Гермес македонских монет трансформируется тем значительнее, чем дальше они удаляются от Средиземного моря. Галльские «имитации» не имеют более с ним ничего общего; уже каталонские монеты рода обрели манеру Тенских рельефов[132 - Тенские рельефы… – Речь идёт о кельтском искусстве так называемой Тенской цивилизации второго железного века (ок. 450– 50 г. до н. э.); для него характерна схематизация, которая привела к декоративной абстракции (геометрическим и спиральным формам); керамика, украшения (торквес – шейные кольца у кельтов); оружие, монеты.]. Имитации создают профиль методом агломерированного лепного коллажа, отличного от шумерской лепки, а в орнаменте монет в виде скрученного жгута, монет, «имитирующих» каталонские монеты, видится более высокое мастерство. Конечно, этим изображениям не чужда манера глиптики; но, как только они становятся для нас привычными, они теряют то, что, кажется, сближает их с шумерскими печатями, с резьбой по камню. У армориканских озисмиев[133 - До VII в. Бретань называлась Арморик (Армор – «страна моря», до сих пор сохранилось название Армориканский массив).] и на острове Джерси эти монеты совершенно свободно приобрели некий стиль, – через сколько поколений? – который быстро заставляет забыть о стиле статера Филиппа.
Вскоре выпуклая резьба будет менее ярко выраженной, но рисунок появится вновь, благодаря жирной прорисовке контура некой рельефной мозаики. Изображение паризиев[134 - Паризии – кельтское племя, обосновавшееся на острове Лютеция (теперь – Сите? в Париже); завоевания римлян относятся к 52 г. до н. э.] кажется вычерченным мелом на чёрном фоне, но его линии очерчивают ту же площадь, что и предыдущие силуэты: их можно без труда воссоздать, им принадлежат две выпуклости, которыми заканчивается разрез рта. Получается, что изношенность или сам чеканщик создали грани неровными, и эти неровности соединяются в каком-то мощном барочном литье.
Аверс статера (античнои монеты) с изображением Филиппа II, Македония, 359–336 гг. до н. э.
Реверс статера Филиппа II
Галльская монета, ок. 60–20 гг. до н. э.
На другом полюсе это искусство трансформирует традиционные впадины в рельефы, не теряя при этом сложного единства кельтской объёмности. Мы размышляем здесь над тем, что осталось, и придётся немало потрудиться, чтобы изменить наши фантазии на темы истории. Однако первые же художники, которые вслед за македонским Гермесом пришли к согласию форм, замечательным свидетельством чему является монета озисмиев, или кюриозолитская монета, были людьми, которых сегодня мы называем мастерами. Волосы, нос, губы – рельефы у кюриозолитов и у озисмиев; но если веки у первых – рельефы, то у вторых они – углубления; глаз – тоже впадина, тогда как раньше он был рельефным. И главное – щека, занимающая почти всегда самое значительное место, плоская и менее выпуклая, чем лоб. Низ лица – от затылка до подбородка – уже всего только абстракция; другая абстракция соединяет нос с тем, что было завитком шевелюры. Лучшие из чеканщиков монет так же различны, как романские скульпторы.
Оттого ли они трансформировали элементы средиземноморских монет, что не понимали их смысла, или, скорее, этот смысл им был неинтересен? Вместо развевающегося плаща возницы они выгравировали щит, потому что плащ отошёл на второй план, а также потому, что они предпочли щит; затем – вместо щита – крылатую фигуру. А когда вместо уха они помещают солнце, то ведь не потому же, что не знают о существовании ушей! Столь распространённая тогда лошадь с человеческой головой – не ошибка интерпретации. Изредка художник показывал, в том числе и на этих маленьких отчеканенных поверхностях, свою способность заключать в ту или иную живую форму неясный и нерушимый остов своего стиля: изогнутая фигура льва на марсельских монетах превратится в кривой изгиб кальмара. Жемчужное колье классических монет, избавившись от шеи, украсит армориканские монеты доисторическими шариками. Реестр этих замен выглядел бы поучительно, но мы не знаем, что он мог бы уточнить?
Голова Гермеса на статерах Филиппа искажалась от «упадка» к «упадку», – в результате этого искажения получилась голова льва.
На просторах Европы, от одного её края до другого, варвары будут пытаться перевоссоздать Гермеса, согласно собственным законам, пока им это не удастся или пока не исчезнет лицо.
В этом последнем случае монета принимает двусмысленно модернистский вид. Чеканщика завораживает круглая поверхность, – он начинает покрывать её абстрактными линиями, подобно современному художнику, которого околдовывает прямоугольник его полотна. На смену рисункам атребатов[135 - Атребаты – племя бельгийской Галлии, обосновавшееся в Артуа (теперь департамент Па-де-Кале).], чья абстракция оживляется движением, сходным с движением Андре Массона[136 - Массон Андре (1896–1987 гг.) – французский художник, рисовальщик, гравёр, работал в разных стилистических манерах (кубизм, сюрреализм, экспрессионизм).], в Англии и в районе Соммы появляются статические композиции немыслимой структуры, тем более удивительные, что монета не принадлежит искусству, творимому в одиночестве (как негритянское искусство)… Нумизмат, а не скульптор, может увидеть знаки, но нигде нет более ни глаза, ни носа; вместо них – угрожающий серп, а внизу – впадина кольца, противостоящая полноте шара.
Один из постоянных мотивов реверса этих монет – крылатый конь. И люди древних цивилизаций, и варвары приходили к согласию скорее в отношении коня, чем в отношении человека: Александр и Верцингеторикс, кроме всего прочего, оба были предводителями конницы. В Аквитании лошадь становится геометрической фигурой, которая, однако, не ограничивается геометрией; иногда её изогнутое туловище сопрягается с передней ногой и тем, что обозначает голову всадника (заменившую крыло), в то время как тело последнего, задние лапы и хвост лошади – прямые линии, гриву образуют варварские шарики. У лемовицев[137 - Лемовицы – древнее галльское племя, проживавшее на территории Лимузена (в настоящее время – Лимож; в римскую эпоху – часть так называемой Аквитании).]лошадь сродни своему фантастическому всаднику; её находят и у паризиев, с крыльями и без всадника, рассыпавшегося на этот раз на арабески в духе почти орнаментального искусства, которое словно сближается с персидским фаянсом.
Но Восток тут ни при чём. Даже степи ни при чём. Искусно выполненные, подчас напоминающие Альтамиру[138 - Альтамира – пещера в Кантабрийских горах (Испания) с наскальными рисунками Мадленской культуры (поздний палеолит, ок. 15000-8000 лет до н. э.).], эти арабески приводят к появлению одетых в броню, столкнувшихся в битве животных, и переплетения, знаменательные, как фронтальность в Египте, мускулатура в Ассирии или свобода в Греции, сменяются здесь расчленением. Даже когда исчезает нервная структура армориканских монет, когда в Дордони, известной наскальной живописью[139 - В Дордони… – Имеются в виду пещеры Лимей, Комбарель, Фон-де-Гом (Франция); шедевры искусства палеолита (Мадленская эпоха).], монеты словно ищут тотемистического кабана в глубинах распавшегося времени, каждая из линий складывается наподобие ломаной кости. Лошадь везде открывается, как человеческое лицо, и, как оно, умирает; там, где мы видим лошадь умирающей, она становится расстроенной идеограммой.
Эти «композиции» тем более отличаются от знака, что некоторые племена, в частности, велиокассы, оставили монеты, которые всего лишь знаки. Выразительность у варваров, более яркая в армориканских монетах, чем в «Богах с Молотком»[140 - «Боги с молотком»… – Тор (Донар) – в германо-скандинавской мифологии бог грома, бури и плодородия. В Исландии была найдена бронзовая статуэтка бога Тора с молотом (ок. 1000 г.). Миниатюрные молоты, которые жертвовали Тору, – отражение скандинавского культа эпохи бронзы.], более бурная даже, чем выразительность голов Рокпертюзы и Антремона[141 - …выразительность голов… – Рокпертюз – место археологических раскопок в департаменте Буш-дю-Рон. В кельтско-лигурийском святилище III–II вв. до н. э. были найдены, в частности, фигура на корточках, двуглавый Гермес, выполненный в традиции статуй-менгиров (музей Борели, Марсель); Тараска – чудовище (музей Лапидер, Авиньон). В Антремоне (плато на севере департамента Экс-ан-Прованс) в 1946 г. были обнаружены развалины укреплённого города, столицы племени салиенов (начало IV в. до н. э.) и так называемые Отрубленные головы.], исчезла, если предположить, что велиокассы когда-то её знали; характерная манера композиций отсутствует также в районе Соммы. Линии этих идеограмм скорее служат надписями, чем складываются в рисунок. Лучшие армориканские и английские изображения разрушали связность их классических «образцов» в пользу другой связности; тогда как идеограмма – не образец лица, а рельеф из двух кос, некоего носа, некоего глаза. Целое, если бы не было известно его происхождение, было бы непонятно, и ухо тут стало солнцем. Здесь нет метаморфозы, здесь полный регресс; в этом искусстве, как во многих других, торжество знака есть признак гибели.
Только ли в изготовлении монет выработался столь характерный стиль? Он угадывается в некоторых галльских металлических статуэтках; современное ему деревянное искусство исчезло. Во всяком случае, его изображения показывают с достаточной отчётливостью, что македонский Гермес покорился воле варваров, и здесь проясняется распад античных форм от Эльче[142 - Эльче – город в Испании (Валенсия). В 1897 г. в церкви Санта-Мария (XVIII в.) была обнаружена «Дама из Эльче» (Археологический музей Мадрида) – женский бюст из песчаника V в. до н. э., возможно, произведение греческого скульптора.] до Лунмыня, доля их метаморфозы и доля их агонии.
Искусство великого регресса проявилось в меньшей степени там, где разрушалась римская цивилизация, чем там, где происходила её метаморфоза. Скульпторы надгробий Арля и сланцевых пещер Гандхары[143 - Гандхара – древняя территория северо-запада Индии, севера Пакистана и запада Афганистана. Концепция Мальро относительно искусства Гандхары, так называемого «греко-буддийского», была встречена критически историками искусства, прежде всего, во Франции (Дютюи). Это искусство сложилось в результате влияния нескольких цивилизаций; полемика на эту тему продолжалась до недавнего времени.] робко разрабатывают одни и те же приземистые формы; какой художник согласится с тем, чтобы его помощники, способные ваять подобные фигуры, придавая им единство стиля, которое мы у них находим, не попытались бы создавать более точные копии?
Неумение подражателей разрушает какой-нибудь стиль и не создаёт другого, а ведь самый неумелый помощник без труда воспроизводит пропорции скульптуры. Верно то, что экспрессия движения не достигается без этюда, разработки. Но скульпторы Регресса отказываются не только от движения, они отказываются от смягчения моделировок; какая неумелость помешала бы им шлифовать грани? Если скульпторы заменяли тяжёлыми параллельными, часто встречными складками греко-римские, если в своих попытках и пробах они наталкивались на символическое изображение, каким оно создавалось на протяжении трёх тысячелетий, и как за шесть веков его свели на нет, это значит, что рушилось римское и александрийское понимание человека. В Византии и Бактрии во времена агонии империи на Афродит и Венер смотрели так, как мы смотрим на восковые головы в парикмахерских: агония эта их не просто игнорировала, она их отвергала.