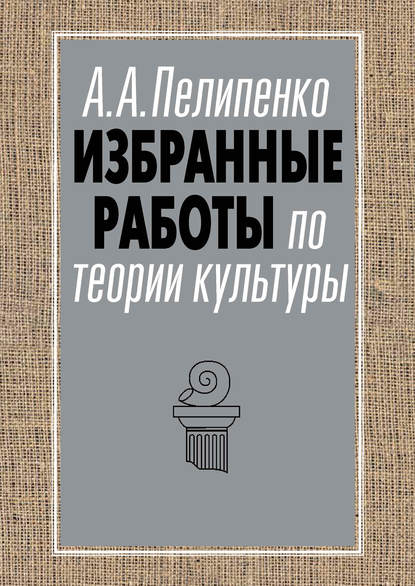По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Избранные работы по теории культуры
Жанр
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Напомню, что мир свёрнутого (импликативного) порядка, в нашем дискурсе соотносимый с когерентной модальностью существования, в культурном сознании определяется как мир трансцендентный, запредельный и т. п. У животных погружение в когерентный мир происходит совершенно органично и спонтанно. Более того, животная психика вообще постоянно, так сказать, в фоновом режиме, там пребывает. У предков человека, в силу пробуждения атипичной для животных формы проявления левополушарной активности[133 - Именно в левом полушарии на протяжении периода формирования неокортекса происходило большее число мутаций.], эти контакты с когерентным миром стали давать сбои и рассогласовываться. Показательно, что именно верхняя задняя часть теменной доли в левом полушарии оказалась, по данным нейрофизиологии (опыты Э. Ньюберга), ответственной за выстраивание рефлектирующего кордона между внутренним миром переживающего я и миром внешним. Развитие этой психической перегородки в левом полушарии и стало причиной «отключения» психики гоминид от всеобщности природных психических «флюидов» и, в конечном, счёте, их выпадения из природного универсума и психического замыкания на себя, со всеми вытекающими из этого последствиями. Собственно, совокупность этих последствий и стала причиной возникновения Культуры.
Психическое замыкание предопределено было и самим столкновением право– и левополушарных когнитивных паттернов. И уже по другую сторону смыслогенеза, на территории культуры, раннее сознание вынуждено было ощупью искать обратный путь в мир текучих и диффузных когерентных соответствий. И чем более усиливались левополушарные когнитивные техники, тем хуже это получалось. Потому и стала вырождаться самая древняя и самая эффективная «животная» магия[134 - Выражение «животная магия» может показаться парадоксальным. Здесь имеется в виду древнейшая магия, не прибегавшая ни к каким культурным инструментам и опосредованиям.] нижнего и среднего палеолита: испорченное, разбалансированное сознание, утрачивая способность вчувствования во внутреннюю когеренцию между вещами, цепляется за их внешнее, ассоциативное сходство (развитие этой темы см. в гл. 3). И хотя чувство действительного родства субстанций угасало медленно (в этом отношении и современный первобытный человек даст сто очков вперёд человеку культуры Модерна), но связь по существу неуклонно заменилась связью по форме, т. е. по аналогии, ошибочно принимаемой за тождество. И на территории сознания, в отличие от животной психики, расплывчатость, нечёткость границ правополушарных паттернов всё более стала продуцировать не спонтанный дрейф в континуум всеобщей когерентности, а пучки ассоциаций и коннотивные поля. Очевидно, уже эректусы искали путь погрузиться обратный в когерентность посредством установления вторичных симпатических связей между внутренне родственными субстанциями с их пересекающимися смысловыми полями. Так, охра выступает магическим коррелятом крови, каменные рубила – магической имитацией отсутствующих у человека функциональных органов животных: когтей, клыков и т. п.
Импульс к трансцендированию – этот perpetuum mobile механизмов смыслообразования, неизбывная экзистенциальная потребность человека, коренным образом отличающая его от животного, – тоже результат полушарной дихотомии – столкновения и соперничества право– и левополушарных паттернов. И хотя трансцендирование со всей его культурной семантикой, включая и «автоматическую» регенерацию имманентизуемых метафизических идеалов, не сводится к прямым проекциям эволюционного психического травматизма, оно, тем не менее, содержит его в своей основе.
2.4. Диалектика морфофизиологической и культурной эволюции
Итак, ранний культурогенез был ответом не столько на вызовы среды, сколько на вертикальное эволюционное выталкивание из биосистемы. Чтобы этот вывод обосновать зададимся вопросом: независимы ли друг от друга нисходящая линия морфофизиологичекой эволюции и восходящая линия раннего культурогенеза, подобно тому, как биология и история культуры существуют как разные научные дисциплины?
Никоим образом. Ранний культурогенез протекает не в отрыве от морфофизиологической и психической эволюции, не где-то рядом с ней или на её фоне. Генезис культуры оказывается не «сопутствующим явлением» или побочным следствием антропогенеза, а его внутренним фактором, придающим межсистемной переходности диалектические черты. Речь идёт не о плавном сопряжении или «вытекании» культурной эволюции из природной по принципу эстафеты, а о бисистемной диалектике взаимодействия нисходящей (биологической) и восходящей (культурной) линий развития. Это означает, что мы не вправе: отрывать ранние формы культуры от содержания и динамики морфофизиологических изменений; трактовать культуру как нечто изначально самопричинное и самодовлеющее, как некий новый способ решения биологических задач, которые по каким-то не вполне понятным причинам вдруг перестали решаться прежним биологическим образом.
Картина антропологической эволюции во многом ещё неясна[135 - Например, период между 1200 000 тыс. и 900 000 тыс. лет назад ввиду скудности находок представляет собой своего рода провал – «тёмные века» антропогенеза. Впрочем, немалые проблемы несут в себе и другие эпохи. К тому же больной совестью антропологии остаются так называемые «аномальные находки». Многие из них при всём желании не удаётся объявить фальшивками, и потому обсуждать их в академической науке считается неприличным.], но в любом случае она давно ушла от наивной схемы «выстраивания в затылок»: фамногенетическая модель наглядно показывает длительное сосуществование стадиально разных биологических видов с присущими им археологическими культурами. Однако можно проследить, не упуская из вида всей сложности этого сосуществования, внутреннюю диалектику сколь угодно размытой, но всё же магистральной линии.
Опережающее развитие мозга в условиях пониженной мутагенности и замедления эволюционных реакций «подтягивало» за собой комплекс морфофизиологических изменений, что и составляло ключевую «интригу» нисходящей (биологической) эволюционной линии. Приблизительно до среднемустьерской эпохи господство этой нисходящей линии заключалось в том, что прото– и раннекультурные практики не оказывали никакого (или почти никакого) встречного воздействия на ход морфофизиологических изменений. Изначально культура представляет собой точечные очаги поражения, деформации природных функций и регулятивов, а её ранние феномены – не более чем полуспонтанные реакции на эволюционные аномалии антропогенеза как вертикального направления эволюции. Реакции эти содержательно абстрактны, предельно синкретичны и однотипны (этим, в частности, объясняется чрезвычайно близкое сходство номенклатур каменных артефактов нижнего палеолита, существенно разнесённых во времени и территориально и даже имеющих своими носителями разные биологические виды). Это свидетельствует о том, что комплекс видовых морфофизиологических изменений, протекая в имманентном процессуально-темпоральном режиме, автоматически не вызывал прямых и синхронных изменений в культурных практиках. Последние на этом этапе были лишь общими и типичными для разных биологических видов реакциями на проявления эволюционной болезни.
Изначально будучи не более, чем побочным эффектом (эпифеноменом) бурного роста неокортекса, протокультурные практики выступали в роли стихийной корректирующей самонастройки витальных (прежде всего психических) процессов, разладившихся вследствие патогенности антропогенетического процесса и возникающих при этом дисфункций. Изначально не имея собственной эволюционной интриги, эти практики оказывались всецело (или близко к тому) подчиненными направленности и динамике морфофизиологических изменений. Поэтому между эволюцией артефактов (главным образом, орудийных индустрий) и видовой эволюцией их носителей не наблюдается согласованности: и в нижнем, и в среднем палеолите носителями подчас до идентичности близких каменных индустрий выступают, как уже говорилось, разные виды. Причём эволюция культурная на этом этапе по темпам ещё отстаёт от эволюции биологической: носителями ашельской каменной индустрии могли быть как архантропы, так и более, казалось бы, «продвинутые» ранние палеоантропы.
Иными словами, в нижнем палеолите очаги протокультуры носят по отношению к «мейнстриму» видовой эволюции подчинённый и периферийный характер, а их функция связана, прежде всего, с поиском психической и, соответственно, поведенческой коррекции. В связи с подчинённым положением культурной эволюции по отношению к морфофизиологической темпы культурной динамики отстают от скорости видового эволюционирования. Хотя вопрос о носителе первых артефактов олдувая до конца не прояснён, есть всё же основания считать, что этот носитель сформировался как вид прежде, чем стал изготавливать первые галечные артефакты. Дальше ситуация более ясна. Древнейшие останки эректусов датируются 1,9–1,8 млн. лет назад, а типичная для них ашельская каменная индустрия появляется не ранее 1, 6 млн. лет назад (датировку иногда сдвигают до 1,7 млн. лет, но это сути дела не меняет)[136 - Нарочно привожу наиболее раннюю датировку, дабы показать, что указанное запаздывание «технологии по отношению к антропологии наблюдается и в этом случае. Усреднённая датировка начала ашеля – 1, 4–1, 3 млн. лет.]. Такое отставание наблюдается и позднее: неандертальцы появились раньше, чем «закреплённая за ними» мустьерская культура. Но вот что особенно важно: временная дистанция неуклонно сокращается. Культурная эволюция медленно, но верно высвобождается из сковывающей оболочки эволюции видовой и разворачивает свои имманентные, т. е. уже собственно культурные противоречия. Но пока оболочка видовой эволюции остаётся скрепляющим и сдерживающим контуром, имманентные противоречия культуры как саморазвивающегося образования не могут вырваться на «оперативный простор». И потому темпы раннего культурогенеза остаются низкими, а сама форма существования культуры – точечно-синкретической.
Видовая эволюция опережала культурную и у ранних сапиенсов. Человек современного физического типа появился ещё около 195 тыс. лет назад[137 - Так, методом генетической реконструкции установлен возраст двух, найденных Р. Лики ещё в 1967 г. черепов ранних сапиенсов – ок. 200 тыс. лет.], но как носители нового культурного качества сапиенсы проявили себя значительно позже (по меркам ускоряющихся процессов). По-видимому, лишь к 70 тыс. лет назад палеокультура обрела достаточный потенциал внутренних противоречий и стала ориентировать растущий мозг на направленное смыслообразование и обеспечение соответствующих когнитивных процессов и практик.
Эпоха около 70 тыс. лет назад, примечательная во многих отношениях[138 - По данным генной эволюции (С. Оппенгеймер) Около 80 тыс. лет назад Homo sapiens вышел из Африки и около 70–60 тысяч лет назад расселился по миру.], стала одним из тех подспудных и почти не проявленных переломов, которые предопределяют последующие культурные революции. В данном случае – культурный взрыв ориньяка. Впрочем, устремлённость к ориньяку по прохождении точки перелома кое-где всё же себя обнаруживает. Так, в найденной К. Хиншелвудом в Южной Африке пещере Болмбос, впервые за пределами Европы обнаружены принадлежавшие сапиенсам настенные росписи. Датируется они временем около 77 тыс. лет назад.
Прохождение точки перелома (около 70–60 тыс. лет назад) стало, по-видимому, роковым для неандертальцев и триумфальным для сапиенов. Если временной отрезок между Homo heidelbergensis и Homo neanderthalensis можно считать «золотым веком» первобытности – точкой относительного равновесия нисходящей (морфофизиологической) и восходящей (культурной) эволюционных линий[139 - В эпоху палеоантропов основные эволюционные изменения происходили уже не в скелете, а в головном мозге.] – то появление мустьерского подвида человека разумного[140 - Ранними представителями современного подвида гоминид Homo sapiens sapiens принято считать потомков гипотетической протопопуляции «Евы», появившейся, по молекулярно-генетическим данным в диапазоне 166–249 тыс. лет назад в Африке. Молекулярные данные об «Адаме» более скудны и вследствие сложности исследования Y– хромосомы менее точны. Время его появления колеблется между 190 и 270 тыс. лет [см.: 187; 367].] ознаменовало выход на «финишную прямую» видовой эволюции. Шлейф морфофизиологических изменений с тех пор захватывает лишь подвидовой уровень[141 - Так, расообразование, по мнению большинства авторов – это подвидовой уровень эволюции homo sapiens sapiens и, добавим, полностью укладывающийся в горизонтальное направление адаптационного доразвития. Впрочем, расообразование одной лишь адаптацией не объясняется (а, быть может, и вовсе не объясняется): его причины нередко усматривают в «растаскивании» разных частей генофонда ранних популяций сапиенсов в процессе их миграции из Африки. Т. е. расообразование – это результат так называемых малых выборок. (Концепции, возводящие начала расообразование к эпохе эректусов менее убедительны). При этом, говоря о «завершающих штрихах» эволюции наших непосредственных предков, нельзя приуменьшать, и, тем более, вовсе упускать из виду эволюционную дистанцию между ранними сапиенсами с их, как уверяют археологи, современным физическим типом, и Homo sapiens sapiens.]. Т. е. с этого периода доразвитие морфофизиологических черт человека более не оказывает существенного влияния на эволюцию культуры. Последняя теперь детерминируется факторами эволюции психической – переходного звена между морфофизиологией и ментальностью. Так, досубъектная диалектика морфологической симметрии и функциональной асимметрии на уровне природных форм обнаруживает себя в нейронных структурах мозга и вторичным образом кодируется в психических паттернах МФА. При этом она, как и весь опыт предшествующей эволюции встраивается в организацию мозга, уже ментально продуцирующего смысловые ряды, организованные по принципу двухполюсной системы субъективно переживаемых и ценностно окрашенных оппозиций.
Таким образом, применительно к с указанному периоду можно говорить об относительном выравнивании темпов биологической и культурной эволюции, а затем – о начале выраженного и нарастающего встречного воздействия культурных факторов на затухающую и последними всё более корректируемую эволюцию видовую, несколько позднее – и подвидовую. Вырвавшись из «упаковки» биопроцессов, но продолжая, тем не менее, в значительной степени от них зависеть, динамика культурного развития постепенно выходит на доминирующие позиции, и её встречное влияние на ход морфофизиологических изменений преобразуется в общеэволюционную магистраль. При этом ускорение темпов культурной эволюции, начиная примерно с позднемустьерской эпохи, оказывается причиной нарастающего диалектического напряжения между восходящей и нисходящей линиями межсистемного перехода.
Приспособление к внешним условиям жизни сменяется приспособлением к давлению искусственного отбора. Пройдя в среднемустьерскую эпоху своего рода точку равновесия, процесс переламывается: теперь биологическое развитие корректируется и направляется имманентной логикой культурогенеза, и запаздывание морфофизиологических изменений по отношению к культурной эволюции, т. е. ситуация, обратная той, что в нижнем палеолите, оказывается причиной исчерпания потенциала жизнеспособности видов. Впечатляющим проявлением корректировки инерционных биоэволюционных процессов под задачи становящейся культуры может служить переориентация у кроманьонцев количественного увеличения мозгового вещества у неандертальцев на его структурную «переупаковку», что имело хорошо известные эволюционные последствия.
Снижение объёма мозга у кроманьонцев по отношению к неандертальцам объясняют также и резко возросшей специализацией популяций сапиенсов, которая «приводила к элиминации или территориальному выдавливаиню наиболее интеллектуально развитых, но несоциализированных особей. По этой причине за последующие 5 тыс. лет средний объём мозга наоантропов упал с 1545 до 1403 см
» [214, c. 302]. ГЭВ горизонтального направления в свои права вступают уже и в новообразуемой надприродной сфере, которой ещё только предстоит в своём развитии достичь состояния системы.
Отметим, что ускорение темпов культурной эволюции не может быть обусловлено какой-либо одной или даже главной причиной, каковой обычно считают прогрессию информационных взаимодействий. Эта причина, если и оказывалась главной, то не в раннем культурогенезе, когда живущие рядом популяции могли на протяжении долгих тысячелетий не иметь между собой никаких контактов. Ускорение культурной эволюции задаётся имманентно нарастающей динамикой всего комплекса внутрикультурных противоречий, основанной бинарной поляризации смыслов, которая присуща становящемуся культурному сознанию. А динамизация информационных взаимодействий, тесно связанная в раннем культурогенезе с демографическими и миграционными процессами, это не более чем один из внешних планов выражения этого комплекса и его последствий.
Отмеченная выше точка перелома тенденций фиксирует момент, с которого можно наблюдать обратное (встречное) влияние раннекультурных практик на генотип. И влияние это, лавинообразно нарастая, в конечном итоге привело к верхнепалеолитический революции.
Вопрос о возможности кодирования культурного опыта в генах стал в некотором смысле камнем преткновения. Одни авторы о таком кодировании говорят как о само собой разумеющемся факте, другие с той же уверенностью указывают на его недоказанность. Дело, как всегда в таких случаях, в парадигматике и методологии. Но пока не будем останавливаться на этом вопросе.
Если же рассмотреть весь период диалектического взаимодействия морфофизиологической и культурной эволюции, то в нём можно выделить две точки (точнее, эпохи), соответствующие пикам эволюционной болезни. Первая связана с миром хабилисов и их родственников на кусте эволюции: кениантропов, которым, как уже говорилось, возможно, и принадлежит честь совершить первую технологическую революцию[142 - Древнейшие «орудия» (из дальнейших рассуждений станет понятно, почему я беру это слово в кавычки) относятся к 2,63 – 2, 58 млн. а 2,3 млн. лет назад. Kenyantropus rudolfensis уже создавал типичную для олдувая каменную индустрию. Иногда возраст первых артефактов удревняют до 3 млн. лет, и тогда возникает предположение, что они появились раньше, чем первые представители рода Homo. В этом случае, носителем первых артефактов гипотетически выступает австралопитек гархи (A. garhi). Этот вопрос, однако, более существенен для физической антропологии, нежели для культурной. Вполне вероятно, что создателями первых каменных артефактов были сразу несколько видов.], и Homo ergaster. Именно в этот период морфофизиологических изменения достигли такого уровня, на каком самонастройка и корректировка жизненных процессов в рамках одного лишь видового кода оказалась недостаточной или вовсе невозможной. С подобной проблемой в той или иной мере сталкивались ещё приматы, а затем австралопитеки. Но в наибольшей степени от комплексных последствий неотенических изменений и выпадения из «нормального» русла горизонтального эволюционирования пострадал именно хабилис. Это странное существо, как уже отмечалось выше, парадоксальным образом сочетающее в себе «прогрессивные» и «регрессивные» черты, ярко иллюстрирует противоборство вертикальных и горизонтальных направлений ГЭВ. Имея вес мозга в 500–650 гр., что существенно больше, чем у типичных австралопитеков, хабилис, соответственно, производил на свет более «головастых» детёнышей. В русле развития неотенического комплекса это усиливало половой диморфизм: самки имели бёдра более широкие, чем самцы. При этом у хабилиса прослеживаются признаки начала «переупаковки» мозгового вещества: «атавистическая» затылочная часть уменьшается в пользу «человеческих» долей мозга – лобной, теменной и височной. Продолжаются начатые ещё у ардипитеков редукция клыков и утончение слоя зубной эмали. Отмечается расширение ногтевых фаланг, что указывает на развитие пальцевых подушечек и, соответственно, кинестетического аппарата. Однако наряду с этими и некоторыми другими признаками вертикальной эволюции у хабилиса присутствуют и признаки горизонтального эволюционирования. Так, в его анатомии (в частности, в строении кисти) наряду с более совершенной формой бипедализма прослеживаются черты приспособления к лазанию по деревьям. И это при том, что первый палец стопы хабилиса не был отведён в сторону, а так же, как у современного человека, располагался вместе с другими пальцами. Это указывает на то, что нога его полностью была приспособлена только к двуногому передвижению. Несмотря на расширение, по сравнению с австралопитеками, черепа в подглазничной и теменно-затылочной части, «лицо» хабилиса с надглазничными валиками, плоским носом и выступающими вперёд челюстями ещё очень архаично, а мозг, несмотря на намечающееся поле Брока, имеет округлый эндокран и не имеет точек роста. Таким образом, Homo habilis – главный герой протокультурной эпохи – наиболее впечатляющее воплощение кричащих противоречий разнонаправленности ГЭВ и потому, – главная жертва эволюционной болезни.
Такое эволюционное «приключение», несомненно, привело бы к вымиранию[143 - По подсчётам антропологов, среди костей хабилисов 73 % принадлежат особям, не достигшим зрелого возраста. Для сравнения, у австралопитека африканского этот процент не превышает 35, у жившего несколько позднее австралопитека массивного – уже 60,5 %. Динамика болезни налицо. И причины её отнюдь не в одном лишь давлении среды.] не только отдельных видов, как это собственно и происходило, но и всех гоминид вообще, если бы не ряд их морфологических особенностей. Последние, не будучи эволюционно прогрессивными на более раннем этапе, именно теперь обнаружили свою востребованность. И главное, прогрессирующая «на пике болезни» межполушарная асимметрия мозга в контексте бурного роста неокортекса позволила использовать все эти морфофизиологические особенности, переориентировав их если еще не на собственно культурный, то, по крайней мере, на уже не совсем природный путь развития.
Второй пик болезни – позднемустьерская эпоха с её главным героем – неандертальцем. Именно он оказался жертвой завершения системного перехода, когда раннекультурные практики вырвались из оболочки морфофизиологической эволюции и стали ее себе подчинять. Т. е. разрозненные протокультурные программы складывались в единую взаимосвязанную систему. Полностью завершить этот процесс, оставаясь в границах своего биологического вида, неандерталец, вероятно, не смог: видимо, остановка ставшего непродуктивным простого наращивания массы мозга и его более плотное и экономное переструктурирование обозначили предельные эволюционные границы. Неандерталец должен был уйти, и вытеснение его кроманьонцем совершенно закономерно. Взрыв манипулятивной активности неандертальца – ответ психики на вызов второго пика антропологической болезни. Усложнение психики опережает её интеграцию (сбалансированность и согласованность режимов). Отсюда невротичность, повышенная флуктуационность и мутагенность манипуляционных процессов. И как результат – взрывное расширение артефактуального арсенала. Драма неандертальца, таким образом, заключалась в критическом опережении культурной эволюционной линией, с её собственными проитворечиями, линии морфофозиологической, уже почти полностью свёрнутой до процессов оформления нейрофизиологической и функциональной системы мозга.
Указанное опережение подтверждается тем, что некоторые из наиболее ранних верхнепалеолитических культур, например, шательперронская (38–33 тыс. лет назад) созданы были, как оказалось, неандертальцами (до сравнительно недавнего времени их участие в верхнепалеолитической революции не признавалось). Иногда «оправдание неандертальцев», у которых, как выяснилось, и с лобными долями всё было в порядке[144 - Мнения специалистов на этот счёт расходятся. Обобщая широкий археолого-аналитический материал, можно всё же придти к выводу о том, что, по крайней мере, классический неандерталец в той или иной степени, уступал кроманьонцу по развитию лобных долей и связанных с ними психических функций.] (что, впрочем, нельзя считать окончательно доказанным). Дело доходит и до постановки проблемы об «авторстве» ориньяка. Будь этот вопрос решён в пользу неандертальцев, вышеприведённая модель диалектической динамики культурной и морфофизиологической эволюции получила бы дополнительный аргумент, каковых, впрочем, и без того достаточно.
Осталось добавить, что в описании и трактовке раннего культурогенеза я намеренно избегаю апелляций и привязок к так называемой «трудовой» теории. Сразу признаюсь, что решительно отвергаю всякого рода трудовые теории, основанные на грубой модернизации утилитаристских мифов XIX в. и вызванной ими устойчивой психологической инерции. Утверждаю, пока чисто постулативно, что изготовление первых артефактов, по своей когнитивной основе будучи по меньшей мере полубессознательным, а по своим функциям в высшей степени синкретичным, лишь в минимальной степени служило утилитарным и прикладным целям. Не труд и не производство были главными побудительными мотивами в создании первого поколения вещей, а также прото-языковых морфем и иных артефактов, в раннем культурогенезе связанных в единый синкретический комплекс. Однако подробнее к этой теме обратимся позже.
Итак, подытожим. Характер переходности в эпоху антропогенеза и раннего культурогенеза определяется двойной диалектикой бисистемных процессов: с одной стороны, противоречивым взаимодействием эволюционных режимов биологической и протокультурной сфер и, с другой – имманентными противоречиями, развивающимися по мере становления и эмансипации самой культурной сферы как таковой. При этом доминанта в итоговой равнодействующей этой двойной диалектики смещается от первого ко второму и завершается с переходом биологической эволюции в фоновый режим инерционного доразвития. Тогда темпорально-ритмический отрыв культурной эволюции от биологической достигает такого масштаба, что последняя перестает оказывать на первую какое-либо заметное воздействие, как, к примеру, образование галактик не оказывают прямого влияния процессы на ход видообразования в биосистеме Земли. В верхнем палеолите происходит завершение видовой эволюции человека. Дальнейшие морфофизиологические изменения, спускаясь на подвидовой уровень (расообразование), переходят в фазу инерционного доразвития, тогда как остриё эволюционного вектора смещается в более узкую область психофизиологии, а затем в ещё более узкую сферу ментальности и протекает теперь в пространстве типологий ментальных конституций и соответствующих им социокультурных практик и конфигураций. Культура освобождается от сдерживающих детерминант видовой эволюции, что вызывает небывалый культурный взрыв верхнего палеолита. Так культура из антисистемы – вертикально-эволюционной оппозиции биосистеме – превращается в систему и вступает в фазу имманентного развития в режиме всё более ослабевающей зависимости от материнской системы – природы. Впрочем, в полном смысле системного уровня культура достигает не ранее конца неолитической эпохи. До этого времени она лишь система-в себе – но уже система!
Отмеченная бисистемная переходность определяет и временную длительность раннего культурогенеза, и его периодизацию, и его кризис и завершение, и эволюционные итоги – становление мифоритуальной системы и начало человеческой истории. Уже не естественные законы, включая и закон естественного отбора в его «чистых» природных формах, играют здесь главную роль (хотя, разумеется, они ещё не отмирают полностью)[145 - Согласно некоторым концепциям, процесс становления индивидуального самосознания, относимый к эпохе ранней государственности, сопровождался перестройкой работы головного мозга [см. напр.: 125, c. 146–159]. Хотя такого рода концепции явно радикальны, их всё же нельзя игнорировать и упускать из внимания процесс «латентных» физиологических и психофизиологических изменений, сопровождающих ход истории. А связь этих изменений с историческими фазами структурирования ментальной сферы – отдельный и никем, по сути, не изученный вопрос.], а становящаяся культура движет, организует и корректирует финал биологической эволюции. Так больное животное начинает выздоравливать.
Глава 3
Психосфера
Наше обычное бодрствующее сознание – рациональное сознание, как мы его называем – всего лишь один из типов сознания; в то же время вокруг него, отделённые тончайшими границами, располагаются другие, совершенно не похожие на него потенциальные формы сознания.
У. Джемс
Туда не проникает ни взгляд
Ни речь, ни ум,
Мы не знаем, мы не понимаем,
Как можно обучить этому.
Кена Упанишада
3.1. Общие замечания
Тема соотношения мира квантового Зазеркалья и мира эмпирического, о котором уже шла речь в гл. 1, и в особенности тема эволюционного сопряжения биосистемы и культуры требуют разговора более подробного. Во всех без исключения культурных традициях существует огромный смысловой комплекс, связанный с проблемой промежуточного звена, «соединительной ткани» между миром эмпирическим и тем, который обычно называют иным, запредельным, трансцендентным, тонким[146 - Термин тонкий мир, тонкие энергии и проч. употребляются чаще всего в контекстах, принятых считать паранаучными. Однако ещё в конце позапрошлого века теоретическая физика этот термин ввела в оборот применительно к таким, субстанциям как излучение и эфир, в порядке противопоставления «грубой» вещественной материи.], потусторонним, сверхъестественным и т. п., т. е. миром, недоступным обычному восприятию. В нашей системе определений он понимается как «параллельный» физическому миру континуум имплицитно-потенциального бытия, концепция которого в широком смысле согласуется с современными квантовыми и космологическими теориями. Образ этого континуума можно – в нестрогом понимании, – соотнести с бомовским понятием импликативного «свёрнутого» порядка (см. гл. 1). Поэтому здесь и далее этот мир будет называться импликативным, а понятия когерентный, квантовый, нелокальный выступают как синонимические (если нет других толкований).
Сразу оговорюсь, что речь не идёт о строгом соответствии наших интерпретаций бомовской теории, либо какой-то иной релевантной ей точки зрения, будь то теория голографической Вселенной, множественности миров или упомянутая в гл.1 теория бутстрапа Дж. Чу. Эти и некоторые другие близкие им концепции используются лишь как самый общий естественнонаучный фундамент, на основе которого, уже без всякой оглядки на гуманитарные фантазии «технарей», будут выстраиваться ключевые положения вполне самостоятельной культурологической теории.
Одним из камней этого фундамента выступает складывающаяся в современной квантовой космологии теория «скалярного поля», которая объясняет феномен «тёмной энергии», охватывающей более 70 % (по другим источникам – от 50 % до 90 %) энергии и массы Вселенной и возможную природу физического вакуума. Скалярное поле есть чистое «воплощение» трансцендентного, не имеющее никаких эмпирических проявлений, но в силу своей нелокальности присутствующее везде и во всём в качестве абсолютной потенциальности, пустоты, содержащей почти бесконечную энергию и почти бесконечный потенциал осуществлений. Теория эта с представлениями о трансцендентном коррелирует ещё и в том отношении, что «мгновенное» распространение влияния (феномен нелокальности в КМ) объясняет распространением возмущения скалярного поля. Само возникновение Вселенной в теории скалярного поля объясняется «мгновенным» распространением этого возмущения вследствие квантовой флуктуации: последняя, будучи неизмеримо усиленной условно бесконечной энергией скалярного поля, и привела к Большому Взрыву[147 - С популярным изложение этой теории можно ознакомиться, обратившись к соответствующей литературе [см. напр.: 244; а также: 6, с. 32; 280, с. 63].].
Здесь нужна ещё одна оговорка. Введение понятия импликативного мира (ИМ) для данного исследования весьма важно. Однако мне не хотелось бы центр проблемы смещать в сторону ожидаемых и надоевших споров о том, существует ли этот мир «на самом деле» или нет. Для меня доказательством его существования являются не только теоретические выкладки и экспериментальные данные КМ, но также и весь опыт мировой культуры, неизменно нацеленный на постижение этого самого мира. Для современного научно-философского интеллекта после Геделя, Поппера и Куна рафинированного в своём скептицизме и гиперкритицизме, в принципе нет никаких достоверных доказательств существования чего-либо, а достижение аподиктического знания мерцает романтической мечтой, ценимой исключительно за её недостижимость. Поэтому я принципиально не настаиваю на валидности своих аргументов в вопросе об онтологии ИМ. Верифицировать его невозможно даже с применением расширенного и модифицированного инструментария нетрадиционных логик (fuzzy logic и др.), ибо для адекватного дискурсивного постижения ИМ недосягаем в принципе. В сетку дискурсивных определений можно вписать разве что косвенные его проявления в мире эмпирическом.
Впрочем, ограниченность бивалентной логики очевидна ещё на «дальних подступах» к образам ИМ – в анализе мифологической когнитивности с её поливалентностью [363, p. 235 и далее]. В мифообразовании, как и в детском мышлении, мы наблюдаем изначальную неиерархизованную рядоположенность разных типов связи: по функции, по смежности, по общности признака, по контексту соположения, по отношению часть – целое и др. Причинно-следственная связь в общепринятом рациональном понимании изначально занимает не более чем равноправное место в общем ряду. И лишь пошаговые, как в онтогенетическом, так и в историко-филогенетическом ряду, активизация и развитие левополушарной когнитивности постепенно выводят каузальность на вершину иерархии осмысляемых типов связи между вещами. Впрочем, победа каузальной логики нередко оказывается мнимой.
В связи с этим, центр внимания акцентируется не на онтологическом аспекте ИМ, а на объяснительных возможностях его концепта. Независимо от того, представляет ли он собой величину онтологическую, таковой концепт, на мой взгляд, безусловно, эвристичен; даже в статусе умозрительной конструкции он позволяет достроить недостающий блок в объяснительных моделях культуры, которые без этого страдают неполнотой и пустотами. Представляя ИМ даже просто как набор эпистем, мы получаем возможность достичь существенно большего уровня глубины в понимании генезиса и жизни культурных систем, как в их структурном, так и в историкоэволюционном аспектах. Не говоря уже о том, что появляется шанс более полно постичь природу сознания и приблизиться к разгадке устройства человеческой ментальности. Если же полагание ИМ как онтологической данности всё же коробит ранимые души релятивистов, механистических физикалистов, картезианских рационалистов, феноменологов, постмодернистов, агностиков, солипсистов, материалистов-марксистов, позитивистов с приставкой «нео» и без таковой и прочая, то довожу до их сведения: на таком полагании НЕ НАСТАИВАЮ, и в спор на эту тему не ввязываюсь.
Сфера, о которой идёт речь, представляет собой особенный, полускрытый срез реальности, фиксируемый научными методами лишь в частных и отдельных своих проявлениях и только в оптике опосредованного осмысления специализированными формами рационалистического сознания. Учитывая заведомую узость фильтров этого сознания, могу утверждать, что большая часть проявлений означенной сферы ускользает от рефлексии: как научной, так и обыденной. При этом разного рода инструменты, повышающие «разрешающую способность» неизбежно оказываются искажающими призмами, через которые просматриваются не столько реалии «того мира» как таковые, сколько привнесённые в них коррективы «отсюда». По-видимому, именно этим вызвано болезненное отторжение данной темы респектабельной академической наукой. Дело не только в том, что в зонах межсистемного сопряжения эволюция невольно вынуждена приоткрывать свои глубинные механизмы, которые обычно тщательно скрывает от человеческого постижения.
Тайна ИМ сама по себе несравненно масштабнее и для человека экзистенциально важнее даже, чем проблемы переходности. А поскольку амбициозный МР с его логикой, оперирующей дискретными единицами анализа, неспособен здесь к адекватной рефлексии, то, не желая признавать своего бессилия, он просто отворачивается от проблемы, объявляя её несуществующей. Касается это, к сожалению, прежде всего, наук о культуре. Вообще, раньше подобные проблемы ставились в русле концепции ноосферы[148 - Среди ближайших коррелятов можно вспомнить и пневмосферу П.А. Флоренского: гипотезу которую он предложил в одном из своих писем В.И. Вернадскому.]. Но «ноосферный бум» прошёл, а проблемы остались. Нужны новые парадигмы.
Итак, о какой же «буферной зоне» идёт речь? В контексте постановки двойной задачи: построения гипотезы взаимоотношений импликативного и эмпирического миров вообще и выявления характера их соотношения в зоне сопряжения биосистемы и культуры в частности, с необходимостью вводится понятие ПСИХОСФЕРЫ. Ощущение эвристичности этого понятия носится в воздухе, но его употребление, на сегодняшний день, весьма произвольно и контекстуально[149 - Так, в русле попыток системной иерархизации всех паранормальных явлений говорят о трёхстепенной психосфере, погружение в которую, достигается с помощью особых психотехник [см. напр.: 395 и др.]. В оккультных, паранаучных и т. н. эзотерических сочинениях понятие психосферы встречается нередко и трактуется весьма широко и расплывчато. При этом наблюдается тенденция к проникновению этого понятия и в собственно научный обиход. Так, в частности, психосфера трактуется как «неразрывное единство психики совокупного человечества и окружающей энергоинформационной среды в их постоянном взаимопроникновении, взаимодействии и развитии» (А.Ю Арапов и А.Г. Ли.).], и потому стремление придать ему статус научного термина представляется вполне обоснованным.
Психосфера как целое, нелокальна и имманентна Вселенной в каждом относительно дискретном её локусе. Можно её представить как «срединную» сферу между импликативным и эмпирическим мирами. Нас будет интересовать главным образом проявления психосферы в секторе сопряжения Культуры с эволюционно ей предшествовавшей «пирамидой систем» и, прежде всего, с её материнским лоном – биосистемой. Проявления психосферы за пределами этой области человеку не даны в непосредственном и даже в бессознательном восприятии и могут быть умозрительно смоделированы лишь на основе косвенных наблюдений и спекулятивных построений. Таковые, возможно, могут представлять некоторый интерес для философа. Для культуролога – вряд ли.
Если прямо задать вопрос: ЧТО такое психосфера, то ответить на него столь же прямо и кратко не удастся. Дело в том, что феномен психосферы восходит к столь глубинным и фундаментальным для человека уровням реальности, что любые её определения оказываются неполными и фрагментарными. С учетом её некоторых характеристик, можно сказать, что психосфера – это и образ некоего пространства, и область проявления особого рода феноменов и даже, в нестрогом смысле, поля. Под другим углом зрения, психосфера – канал связи, устройство фильтрации и преобразования кросс-системных ритмов, сигналов, импульсов Вселенной в воспринимаемые человеком формы. Иными словами, мембрана, преобразующий контур, конвертирующий интенциальные импульсы как эмпирического, так и импликативного миров на «водоразделе» психика – сознание.
В большинстве наблюдаемых человеком проявлений психосфера выступает связующим звеном между биосистемой и Культурой и, будучи причастной к ним обеим, обеспечивает эпигенетическую преемственность макроэвлюционного процесса. При этом, как уже отмечалось в предыдущей главе, усложнение когнитивных режимов и семиотических систем культуры последовательно перекрывает каналы прямого психо-сенсорного восприятия реальности, заменяя последнее всё более сложными и многоуровневыми знаково-символическими опосредованиями. Это положение само по себе чрезвычайно важно, и к вытекающим из него выводам я еще не раз буду обращаться. Погружённость в широко понимаемую дискурсивность приводит к ослаблению каналов прямого восприятия и переживания психосферных явлений, за которыми кроются восходящие к ВЭС кросс-системные связи. Последние не просто «объект», положенный рационально мыслящему рассудку наподобие дискретной вещи или явления. Это область реальности, которая самим своим существованием отрицает рационалистический дискурс с его каузальными зависимостями и построенными на этой основе логическими операциями. Вот почему рациональная наука интуитивно избегает притрагиваться к этому «кощееву яйцу».
Итак, «человеческий» локус психосферы возникает для-культуры и исключительно благодаря появлению человеческого сознания. Именно оно способно воздействовать на особый спектр квантовых процессов и тем самым осуществлять продуктивную медиацию между импликативным и эмпирическим мирами.
Обнаружение психосферы в зоне сопряжения биосистемы и Культуры являет лишь частный случай глобального медиационного процесса, протекающего на всех онтологических уровнях и во всех системах. Мы же имеем дело лишь с тем «локусом» психосферы, который выявляет ВЭС в модальности, доступной человеческому восприятию. Модальность эта определяется тем, что материнской системой для культуры выступает биосистема, и любые воздействия, исходящие от «нижних» ступеней системно-эволюционной пирамиды обнаруживают себя, лишь будучи пропущенными сквозь фильтры биострукур. Однако нелокальность когерентных связей в том и состоит, что они не знают системных перегородок и пронизывают материал системных образований, лишь преобразуясь (конвертируясь) в нём, меняя формы и модальности. Это значит, что психосферные явления свою основу имеют не в биосистеме как таковой – ею, а они всего лишь опосредуются. Проходя же через смыслообразующий контур человеческой ментальности (см. гл.4), они опосредуются вторично. Как на предыдущем эволюционном витке всеобщая интенциональная связь преобразовывалась, проходя через «фильтр» нервной системы живого организма, так и в ходе следующего вертикального эволюционного перехода – антропогенеза – она прошла через ещё одно преобразующее «устройство» – становящуюся человеческую ментальность и при этом сохранила свою субстанциональную основу. Это утверждение, однако, по понятным причинам в принципе невозможно обосновать и доказать логически.
От опосредующих фильтров не свободны ни психосенсорное восприятие, ни акты сознания. Однако прямое восприятие психосферных явлений в обход сознания в принципе возможно, но для оформления опыта, полученного в результате такого восприятия, как правило, в режиме ИСС, без культурных кодов и, следовательно, участия сознания, не обойтись. Желанное для всех без исключения эпох прямое восприятие, дающее, соответственно и прямое знание-переживание о всех уровнях реальности в обход сознания с его фильтрующими и отчуждающими опосредованиями, остаётся своего рода «чёрным ходом», «атавизмом», который Культура старательно преодолевает, но никогда не может преодолеть до конца. Неслучайно взлёты спиритуализма и прорывы к прямому интуитивно-холистическому мировосприятию происходят, как правило, в переходные и кризисные эпохи, когда нормативность традиционных кодификакций ослабевает, и сознание частично освобождается от диктатуры знака.
Психическое замыкание предопределено было и самим столкновением право– и левополушарных когнитивных паттернов. И уже по другую сторону смыслогенеза, на территории культуры, раннее сознание вынуждено было ощупью искать обратный путь в мир текучих и диффузных когерентных соответствий. И чем более усиливались левополушарные когнитивные техники, тем хуже это получалось. Потому и стала вырождаться самая древняя и самая эффективная «животная» магия[134 - Выражение «животная магия» может показаться парадоксальным. Здесь имеется в виду древнейшая магия, не прибегавшая ни к каким культурным инструментам и опосредованиям.] нижнего и среднего палеолита: испорченное, разбалансированное сознание, утрачивая способность вчувствования во внутреннюю когеренцию между вещами, цепляется за их внешнее, ассоциативное сходство (развитие этой темы см. в гл. 3). И хотя чувство действительного родства субстанций угасало медленно (в этом отношении и современный первобытный человек даст сто очков вперёд человеку культуры Модерна), но связь по существу неуклонно заменилась связью по форме, т. е. по аналогии, ошибочно принимаемой за тождество. И на территории сознания, в отличие от животной психики, расплывчатость, нечёткость границ правополушарных паттернов всё более стала продуцировать не спонтанный дрейф в континуум всеобщей когерентности, а пучки ассоциаций и коннотивные поля. Очевидно, уже эректусы искали путь погрузиться обратный в когерентность посредством установления вторичных симпатических связей между внутренне родственными субстанциями с их пересекающимися смысловыми полями. Так, охра выступает магическим коррелятом крови, каменные рубила – магической имитацией отсутствующих у человека функциональных органов животных: когтей, клыков и т. п.
Импульс к трансцендированию – этот perpetuum mobile механизмов смыслообразования, неизбывная экзистенциальная потребность человека, коренным образом отличающая его от животного, – тоже результат полушарной дихотомии – столкновения и соперничества право– и левополушарных паттернов. И хотя трансцендирование со всей его культурной семантикой, включая и «автоматическую» регенерацию имманентизуемых метафизических идеалов, не сводится к прямым проекциям эволюционного психического травматизма, оно, тем не менее, содержит его в своей основе.
2.4. Диалектика морфофизиологической и культурной эволюции
Итак, ранний культурогенез был ответом не столько на вызовы среды, сколько на вертикальное эволюционное выталкивание из биосистемы. Чтобы этот вывод обосновать зададимся вопросом: независимы ли друг от друга нисходящая линия морфофизиологичекой эволюции и восходящая линия раннего культурогенеза, подобно тому, как биология и история культуры существуют как разные научные дисциплины?
Никоим образом. Ранний культурогенез протекает не в отрыве от морфофизиологической и психической эволюции, не где-то рядом с ней или на её фоне. Генезис культуры оказывается не «сопутствующим явлением» или побочным следствием антропогенеза, а его внутренним фактором, придающим межсистемной переходности диалектические черты. Речь идёт не о плавном сопряжении или «вытекании» культурной эволюции из природной по принципу эстафеты, а о бисистемной диалектике взаимодействия нисходящей (биологической) и восходящей (культурной) линий развития. Это означает, что мы не вправе: отрывать ранние формы культуры от содержания и динамики морфофизиологических изменений; трактовать культуру как нечто изначально самопричинное и самодовлеющее, как некий новый способ решения биологических задач, которые по каким-то не вполне понятным причинам вдруг перестали решаться прежним биологическим образом.
Картина антропологической эволюции во многом ещё неясна[135 - Например, период между 1200 000 тыс. и 900 000 тыс. лет назад ввиду скудности находок представляет собой своего рода провал – «тёмные века» антропогенеза. Впрочем, немалые проблемы несут в себе и другие эпохи. К тому же больной совестью антропологии остаются так называемые «аномальные находки». Многие из них при всём желании не удаётся объявить фальшивками, и потому обсуждать их в академической науке считается неприличным.], но в любом случае она давно ушла от наивной схемы «выстраивания в затылок»: фамногенетическая модель наглядно показывает длительное сосуществование стадиально разных биологических видов с присущими им археологическими культурами. Однако можно проследить, не упуская из вида всей сложности этого сосуществования, внутреннюю диалектику сколь угодно размытой, но всё же магистральной линии.
Опережающее развитие мозга в условиях пониженной мутагенности и замедления эволюционных реакций «подтягивало» за собой комплекс морфофизиологических изменений, что и составляло ключевую «интригу» нисходящей (биологической) эволюционной линии. Приблизительно до среднемустьерской эпохи господство этой нисходящей линии заключалось в том, что прото– и раннекультурные практики не оказывали никакого (или почти никакого) встречного воздействия на ход морфофизиологических изменений. Изначально культура представляет собой точечные очаги поражения, деформации природных функций и регулятивов, а её ранние феномены – не более чем полуспонтанные реакции на эволюционные аномалии антропогенеза как вертикального направления эволюции. Реакции эти содержательно абстрактны, предельно синкретичны и однотипны (этим, в частности, объясняется чрезвычайно близкое сходство номенклатур каменных артефактов нижнего палеолита, существенно разнесённых во времени и территориально и даже имеющих своими носителями разные биологические виды). Это свидетельствует о том, что комплекс видовых морфофизиологических изменений, протекая в имманентном процессуально-темпоральном режиме, автоматически не вызывал прямых и синхронных изменений в культурных практиках. Последние на этом этапе были лишь общими и типичными для разных биологических видов реакциями на проявления эволюционной болезни.
Изначально будучи не более, чем побочным эффектом (эпифеноменом) бурного роста неокортекса, протокультурные практики выступали в роли стихийной корректирующей самонастройки витальных (прежде всего психических) процессов, разладившихся вследствие патогенности антропогенетического процесса и возникающих при этом дисфункций. Изначально не имея собственной эволюционной интриги, эти практики оказывались всецело (или близко к тому) подчиненными направленности и динамике морфофизиологических изменений. Поэтому между эволюцией артефактов (главным образом, орудийных индустрий) и видовой эволюцией их носителей не наблюдается согласованности: и в нижнем, и в среднем палеолите носителями подчас до идентичности близких каменных индустрий выступают, как уже говорилось, разные виды. Причём эволюция культурная на этом этапе по темпам ещё отстаёт от эволюции биологической: носителями ашельской каменной индустрии могли быть как архантропы, так и более, казалось бы, «продвинутые» ранние палеоантропы.
Иными словами, в нижнем палеолите очаги протокультуры носят по отношению к «мейнстриму» видовой эволюции подчинённый и периферийный характер, а их функция связана, прежде всего, с поиском психической и, соответственно, поведенческой коррекции. В связи с подчинённым положением культурной эволюции по отношению к морфофизиологической темпы культурной динамики отстают от скорости видового эволюционирования. Хотя вопрос о носителе первых артефактов олдувая до конца не прояснён, есть всё же основания считать, что этот носитель сформировался как вид прежде, чем стал изготавливать первые галечные артефакты. Дальше ситуация более ясна. Древнейшие останки эректусов датируются 1,9–1,8 млн. лет назад, а типичная для них ашельская каменная индустрия появляется не ранее 1, 6 млн. лет назад (датировку иногда сдвигают до 1,7 млн. лет, но это сути дела не меняет)[136 - Нарочно привожу наиболее раннюю датировку, дабы показать, что указанное запаздывание «технологии по отношению к антропологии наблюдается и в этом случае. Усреднённая датировка начала ашеля – 1, 4–1, 3 млн. лет.]. Такое отставание наблюдается и позднее: неандертальцы появились раньше, чем «закреплённая за ними» мустьерская культура. Но вот что особенно важно: временная дистанция неуклонно сокращается. Культурная эволюция медленно, но верно высвобождается из сковывающей оболочки эволюции видовой и разворачивает свои имманентные, т. е. уже собственно культурные противоречия. Но пока оболочка видовой эволюции остаётся скрепляющим и сдерживающим контуром, имманентные противоречия культуры как саморазвивающегося образования не могут вырваться на «оперативный простор». И потому темпы раннего культурогенеза остаются низкими, а сама форма существования культуры – точечно-синкретической.
Видовая эволюция опережала культурную и у ранних сапиенсов. Человек современного физического типа появился ещё около 195 тыс. лет назад[137 - Так, методом генетической реконструкции установлен возраст двух, найденных Р. Лики ещё в 1967 г. черепов ранних сапиенсов – ок. 200 тыс. лет.], но как носители нового культурного качества сапиенсы проявили себя значительно позже (по меркам ускоряющихся процессов). По-видимому, лишь к 70 тыс. лет назад палеокультура обрела достаточный потенциал внутренних противоречий и стала ориентировать растущий мозг на направленное смыслообразование и обеспечение соответствующих когнитивных процессов и практик.
Эпоха около 70 тыс. лет назад, примечательная во многих отношениях[138 - По данным генной эволюции (С. Оппенгеймер) Около 80 тыс. лет назад Homo sapiens вышел из Африки и около 70–60 тысяч лет назад расселился по миру.], стала одним из тех подспудных и почти не проявленных переломов, которые предопределяют последующие культурные революции. В данном случае – культурный взрыв ориньяка. Впрочем, устремлённость к ориньяку по прохождении точки перелома кое-где всё же себя обнаруживает. Так, в найденной К. Хиншелвудом в Южной Африке пещере Болмбос, впервые за пределами Европы обнаружены принадлежавшие сапиенсам настенные росписи. Датируется они временем около 77 тыс. лет назад.
Прохождение точки перелома (около 70–60 тыс. лет назад) стало, по-видимому, роковым для неандертальцев и триумфальным для сапиенов. Если временной отрезок между Homo heidelbergensis и Homo neanderthalensis можно считать «золотым веком» первобытности – точкой относительного равновесия нисходящей (морфофизиологической) и восходящей (культурной) эволюционных линий[139 - В эпоху палеоантропов основные эволюционные изменения происходили уже не в скелете, а в головном мозге.] – то появление мустьерского подвида человека разумного[140 - Ранними представителями современного подвида гоминид Homo sapiens sapiens принято считать потомков гипотетической протопопуляции «Евы», появившейся, по молекулярно-генетическим данным в диапазоне 166–249 тыс. лет назад в Африке. Молекулярные данные об «Адаме» более скудны и вследствие сложности исследования Y– хромосомы менее точны. Время его появления колеблется между 190 и 270 тыс. лет [см.: 187; 367].] ознаменовало выход на «финишную прямую» видовой эволюции. Шлейф морфофизиологических изменений с тех пор захватывает лишь подвидовой уровень[141 - Так, расообразование, по мнению большинства авторов – это подвидовой уровень эволюции homo sapiens sapiens и, добавим, полностью укладывающийся в горизонтальное направление адаптационного доразвития. Впрочем, расообразование одной лишь адаптацией не объясняется (а, быть может, и вовсе не объясняется): его причины нередко усматривают в «растаскивании» разных частей генофонда ранних популяций сапиенсов в процессе их миграции из Африки. Т. е. расообразование – это результат так называемых малых выборок. (Концепции, возводящие начала расообразование к эпохе эректусов менее убедительны). При этом, говоря о «завершающих штрихах» эволюции наших непосредственных предков, нельзя приуменьшать, и, тем более, вовсе упускать из виду эволюционную дистанцию между ранними сапиенсами с их, как уверяют археологи, современным физическим типом, и Homo sapiens sapiens.]. Т. е. с этого периода доразвитие морфофизиологических черт человека более не оказывает существенного влияния на эволюцию культуры. Последняя теперь детерминируется факторами эволюции психической – переходного звена между морфофизиологией и ментальностью. Так, досубъектная диалектика морфологической симметрии и функциональной асимметрии на уровне природных форм обнаруживает себя в нейронных структурах мозга и вторичным образом кодируется в психических паттернах МФА. При этом она, как и весь опыт предшествующей эволюции встраивается в организацию мозга, уже ментально продуцирующего смысловые ряды, организованные по принципу двухполюсной системы субъективно переживаемых и ценностно окрашенных оппозиций.
Таким образом, применительно к с указанному периоду можно говорить об относительном выравнивании темпов биологической и культурной эволюции, а затем – о начале выраженного и нарастающего встречного воздействия культурных факторов на затухающую и последними всё более корректируемую эволюцию видовую, несколько позднее – и подвидовую. Вырвавшись из «упаковки» биопроцессов, но продолжая, тем не менее, в значительной степени от них зависеть, динамика культурного развития постепенно выходит на доминирующие позиции, и её встречное влияние на ход морфофизиологических изменений преобразуется в общеэволюционную магистраль. При этом ускорение темпов культурной эволюции, начиная примерно с позднемустьерской эпохи, оказывается причиной нарастающего диалектического напряжения между восходящей и нисходящей линиями межсистемного перехода.
Приспособление к внешним условиям жизни сменяется приспособлением к давлению искусственного отбора. Пройдя в среднемустьерскую эпоху своего рода точку равновесия, процесс переламывается: теперь биологическое развитие корректируется и направляется имманентной логикой культурогенеза, и запаздывание морфофизиологических изменений по отношению к культурной эволюции, т. е. ситуация, обратная той, что в нижнем палеолите, оказывается причиной исчерпания потенциала жизнеспособности видов. Впечатляющим проявлением корректировки инерционных биоэволюционных процессов под задачи становящейся культуры может служить переориентация у кроманьонцев количественного увеличения мозгового вещества у неандертальцев на его структурную «переупаковку», что имело хорошо известные эволюционные последствия.
Снижение объёма мозга у кроманьонцев по отношению к неандертальцам объясняют также и резко возросшей специализацией популяций сапиенсов, которая «приводила к элиминации или территориальному выдавливаиню наиболее интеллектуально развитых, но несоциализированных особей. По этой причине за последующие 5 тыс. лет средний объём мозга наоантропов упал с 1545 до 1403 см
» [214, c. 302]. ГЭВ горизонтального направления в свои права вступают уже и в новообразуемой надприродной сфере, которой ещё только предстоит в своём развитии достичь состояния системы.
Отметим, что ускорение темпов культурной эволюции не может быть обусловлено какой-либо одной или даже главной причиной, каковой обычно считают прогрессию информационных взаимодействий. Эта причина, если и оказывалась главной, то не в раннем культурогенезе, когда живущие рядом популяции могли на протяжении долгих тысячелетий не иметь между собой никаких контактов. Ускорение культурной эволюции задаётся имманентно нарастающей динамикой всего комплекса внутрикультурных противоречий, основанной бинарной поляризации смыслов, которая присуща становящемуся культурному сознанию. А динамизация информационных взаимодействий, тесно связанная в раннем культурогенезе с демографическими и миграционными процессами, это не более чем один из внешних планов выражения этого комплекса и его последствий.
Отмеченная выше точка перелома тенденций фиксирует момент, с которого можно наблюдать обратное (встречное) влияние раннекультурных практик на генотип. И влияние это, лавинообразно нарастая, в конечном итоге привело к верхнепалеолитический революции.
Вопрос о возможности кодирования культурного опыта в генах стал в некотором смысле камнем преткновения. Одни авторы о таком кодировании говорят как о само собой разумеющемся факте, другие с той же уверенностью указывают на его недоказанность. Дело, как всегда в таких случаях, в парадигматике и методологии. Но пока не будем останавливаться на этом вопросе.
Если же рассмотреть весь период диалектического взаимодействия морфофизиологической и культурной эволюции, то в нём можно выделить две точки (точнее, эпохи), соответствующие пикам эволюционной болезни. Первая связана с миром хабилисов и их родственников на кусте эволюции: кениантропов, которым, как уже говорилось, возможно, и принадлежит честь совершить первую технологическую революцию[142 - Древнейшие «орудия» (из дальнейших рассуждений станет понятно, почему я беру это слово в кавычки) относятся к 2,63 – 2, 58 млн. а 2,3 млн. лет назад. Kenyantropus rudolfensis уже создавал типичную для олдувая каменную индустрию. Иногда возраст первых артефактов удревняют до 3 млн. лет, и тогда возникает предположение, что они появились раньше, чем первые представители рода Homo. В этом случае, носителем первых артефактов гипотетически выступает австралопитек гархи (A. garhi). Этот вопрос, однако, более существенен для физической антропологии, нежели для культурной. Вполне вероятно, что создателями первых каменных артефактов были сразу несколько видов.], и Homo ergaster. Именно в этот период морфофизиологических изменения достигли такого уровня, на каком самонастройка и корректировка жизненных процессов в рамках одного лишь видового кода оказалась недостаточной или вовсе невозможной. С подобной проблемой в той или иной мере сталкивались ещё приматы, а затем австралопитеки. Но в наибольшей степени от комплексных последствий неотенических изменений и выпадения из «нормального» русла горизонтального эволюционирования пострадал именно хабилис. Это странное существо, как уже отмечалось выше, парадоксальным образом сочетающее в себе «прогрессивные» и «регрессивные» черты, ярко иллюстрирует противоборство вертикальных и горизонтальных направлений ГЭВ. Имея вес мозга в 500–650 гр., что существенно больше, чем у типичных австралопитеков, хабилис, соответственно, производил на свет более «головастых» детёнышей. В русле развития неотенического комплекса это усиливало половой диморфизм: самки имели бёдра более широкие, чем самцы. При этом у хабилиса прослеживаются признаки начала «переупаковки» мозгового вещества: «атавистическая» затылочная часть уменьшается в пользу «человеческих» долей мозга – лобной, теменной и височной. Продолжаются начатые ещё у ардипитеков редукция клыков и утончение слоя зубной эмали. Отмечается расширение ногтевых фаланг, что указывает на развитие пальцевых подушечек и, соответственно, кинестетического аппарата. Однако наряду с этими и некоторыми другими признаками вертикальной эволюции у хабилиса присутствуют и признаки горизонтального эволюционирования. Так, в его анатомии (в частности, в строении кисти) наряду с более совершенной формой бипедализма прослеживаются черты приспособления к лазанию по деревьям. И это при том, что первый палец стопы хабилиса не был отведён в сторону, а так же, как у современного человека, располагался вместе с другими пальцами. Это указывает на то, что нога его полностью была приспособлена только к двуногому передвижению. Несмотря на расширение, по сравнению с австралопитеками, черепа в подглазничной и теменно-затылочной части, «лицо» хабилиса с надглазничными валиками, плоским носом и выступающими вперёд челюстями ещё очень архаично, а мозг, несмотря на намечающееся поле Брока, имеет округлый эндокран и не имеет точек роста. Таким образом, Homo habilis – главный герой протокультурной эпохи – наиболее впечатляющее воплощение кричащих противоречий разнонаправленности ГЭВ и потому, – главная жертва эволюционной болезни.
Такое эволюционное «приключение», несомненно, привело бы к вымиранию[143 - По подсчётам антропологов, среди костей хабилисов 73 % принадлежат особям, не достигшим зрелого возраста. Для сравнения, у австралопитека африканского этот процент не превышает 35, у жившего несколько позднее австралопитека массивного – уже 60,5 %. Динамика болезни налицо. И причины её отнюдь не в одном лишь давлении среды.] не только отдельных видов, как это собственно и происходило, но и всех гоминид вообще, если бы не ряд их морфологических особенностей. Последние, не будучи эволюционно прогрессивными на более раннем этапе, именно теперь обнаружили свою востребованность. И главное, прогрессирующая «на пике болезни» межполушарная асимметрия мозга в контексте бурного роста неокортекса позволила использовать все эти морфофизиологические особенности, переориентировав их если еще не на собственно культурный, то, по крайней мере, на уже не совсем природный путь развития.
Второй пик болезни – позднемустьерская эпоха с её главным героем – неандертальцем. Именно он оказался жертвой завершения системного перехода, когда раннекультурные практики вырвались из оболочки морфофизиологической эволюции и стали ее себе подчинять. Т. е. разрозненные протокультурные программы складывались в единую взаимосвязанную систему. Полностью завершить этот процесс, оставаясь в границах своего биологического вида, неандерталец, вероятно, не смог: видимо, остановка ставшего непродуктивным простого наращивания массы мозга и его более плотное и экономное переструктурирование обозначили предельные эволюционные границы. Неандерталец должен был уйти, и вытеснение его кроманьонцем совершенно закономерно. Взрыв манипулятивной активности неандертальца – ответ психики на вызов второго пика антропологической болезни. Усложнение психики опережает её интеграцию (сбалансированность и согласованность режимов). Отсюда невротичность, повышенная флуктуационность и мутагенность манипуляционных процессов. И как результат – взрывное расширение артефактуального арсенала. Драма неандертальца, таким образом, заключалась в критическом опережении культурной эволюционной линией, с её собственными проитворечиями, линии морфофозиологической, уже почти полностью свёрнутой до процессов оформления нейрофизиологической и функциональной системы мозга.
Указанное опережение подтверждается тем, что некоторые из наиболее ранних верхнепалеолитических культур, например, шательперронская (38–33 тыс. лет назад) созданы были, как оказалось, неандертальцами (до сравнительно недавнего времени их участие в верхнепалеолитической революции не признавалось). Иногда «оправдание неандертальцев», у которых, как выяснилось, и с лобными долями всё было в порядке[144 - Мнения специалистов на этот счёт расходятся. Обобщая широкий археолого-аналитический материал, можно всё же придти к выводу о том, что, по крайней мере, классический неандерталец в той или иной степени, уступал кроманьонцу по развитию лобных долей и связанных с ними психических функций.] (что, впрочем, нельзя считать окончательно доказанным). Дело доходит и до постановки проблемы об «авторстве» ориньяка. Будь этот вопрос решён в пользу неандертальцев, вышеприведённая модель диалектической динамики культурной и морфофизиологической эволюции получила бы дополнительный аргумент, каковых, впрочем, и без того достаточно.
Осталось добавить, что в описании и трактовке раннего культурогенеза я намеренно избегаю апелляций и привязок к так называемой «трудовой» теории. Сразу признаюсь, что решительно отвергаю всякого рода трудовые теории, основанные на грубой модернизации утилитаристских мифов XIX в. и вызванной ими устойчивой психологической инерции. Утверждаю, пока чисто постулативно, что изготовление первых артефактов, по своей когнитивной основе будучи по меньшей мере полубессознательным, а по своим функциям в высшей степени синкретичным, лишь в минимальной степени служило утилитарным и прикладным целям. Не труд и не производство были главными побудительными мотивами в создании первого поколения вещей, а также прото-языковых морфем и иных артефактов, в раннем культурогенезе связанных в единый синкретический комплекс. Однако подробнее к этой теме обратимся позже.
Итак, подытожим. Характер переходности в эпоху антропогенеза и раннего культурогенеза определяется двойной диалектикой бисистемных процессов: с одной стороны, противоречивым взаимодействием эволюционных режимов биологической и протокультурной сфер и, с другой – имманентными противоречиями, развивающимися по мере становления и эмансипации самой культурной сферы как таковой. При этом доминанта в итоговой равнодействующей этой двойной диалектики смещается от первого ко второму и завершается с переходом биологической эволюции в фоновый режим инерционного доразвития. Тогда темпорально-ритмический отрыв культурной эволюции от биологической достигает такого масштаба, что последняя перестает оказывать на первую какое-либо заметное воздействие, как, к примеру, образование галактик не оказывают прямого влияния процессы на ход видообразования в биосистеме Земли. В верхнем палеолите происходит завершение видовой эволюции человека. Дальнейшие морфофизиологические изменения, спускаясь на подвидовой уровень (расообразование), переходят в фазу инерционного доразвития, тогда как остриё эволюционного вектора смещается в более узкую область психофизиологии, а затем в ещё более узкую сферу ментальности и протекает теперь в пространстве типологий ментальных конституций и соответствующих им социокультурных практик и конфигураций. Культура освобождается от сдерживающих детерминант видовой эволюции, что вызывает небывалый культурный взрыв верхнего палеолита. Так культура из антисистемы – вертикально-эволюционной оппозиции биосистеме – превращается в систему и вступает в фазу имманентного развития в режиме всё более ослабевающей зависимости от материнской системы – природы. Впрочем, в полном смысле системного уровня культура достигает не ранее конца неолитической эпохи. До этого времени она лишь система-в себе – но уже система!
Отмеченная бисистемная переходность определяет и временную длительность раннего культурогенеза, и его периодизацию, и его кризис и завершение, и эволюционные итоги – становление мифоритуальной системы и начало человеческой истории. Уже не естественные законы, включая и закон естественного отбора в его «чистых» природных формах, играют здесь главную роль (хотя, разумеется, они ещё не отмирают полностью)[145 - Согласно некоторым концепциям, процесс становления индивидуального самосознания, относимый к эпохе ранней государственности, сопровождался перестройкой работы головного мозга [см. напр.: 125, c. 146–159]. Хотя такого рода концепции явно радикальны, их всё же нельзя игнорировать и упускать из внимания процесс «латентных» физиологических и психофизиологических изменений, сопровождающих ход истории. А связь этих изменений с историческими фазами структурирования ментальной сферы – отдельный и никем, по сути, не изученный вопрос.], а становящаяся культура движет, организует и корректирует финал биологической эволюции. Так больное животное начинает выздоравливать.
Глава 3
Психосфера
Наше обычное бодрствующее сознание – рациональное сознание, как мы его называем – всего лишь один из типов сознания; в то же время вокруг него, отделённые тончайшими границами, располагаются другие, совершенно не похожие на него потенциальные формы сознания.
У. Джемс
Туда не проникает ни взгляд
Ни речь, ни ум,
Мы не знаем, мы не понимаем,
Как можно обучить этому.
Кена Упанишада
3.1. Общие замечания
Тема соотношения мира квантового Зазеркалья и мира эмпирического, о котором уже шла речь в гл. 1, и в особенности тема эволюционного сопряжения биосистемы и культуры требуют разговора более подробного. Во всех без исключения культурных традициях существует огромный смысловой комплекс, связанный с проблемой промежуточного звена, «соединительной ткани» между миром эмпирическим и тем, который обычно называют иным, запредельным, трансцендентным, тонким[146 - Термин тонкий мир, тонкие энергии и проч. употребляются чаще всего в контекстах, принятых считать паранаучными. Однако ещё в конце позапрошлого века теоретическая физика этот термин ввела в оборот применительно к таким, субстанциям как излучение и эфир, в порядке противопоставления «грубой» вещественной материи.], потусторонним, сверхъестественным и т. п., т. е. миром, недоступным обычному восприятию. В нашей системе определений он понимается как «параллельный» физическому миру континуум имплицитно-потенциального бытия, концепция которого в широком смысле согласуется с современными квантовыми и космологическими теориями. Образ этого континуума можно – в нестрогом понимании, – соотнести с бомовским понятием импликативного «свёрнутого» порядка (см. гл. 1). Поэтому здесь и далее этот мир будет называться импликативным, а понятия когерентный, квантовый, нелокальный выступают как синонимические (если нет других толкований).
Сразу оговорюсь, что речь не идёт о строгом соответствии наших интерпретаций бомовской теории, либо какой-то иной релевантной ей точки зрения, будь то теория голографической Вселенной, множественности миров или упомянутая в гл.1 теория бутстрапа Дж. Чу. Эти и некоторые другие близкие им концепции используются лишь как самый общий естественнонаучный фундамент, на основе которого, уже без всякой оглядки на гуманитарные фантазии «технарей», будут выстраиваться ключевые положения вполне самостоятельной культурологической теории.
Одним из камней этого фундамента выступает складывающаяся в современной квантовой космологии теория «скалярного поля», которая объясняет феномен «тёмной энергии», охватывающей более 70 % (по другим источникам – от 50 % до 90 %) энергии и массы Вселенной и возможную природу физического вакуума. Скалярное поле есть чистое «воплощение» трансцендентного, не имеющее никаких эмпирических проявлений, но в силу своей нелокальности присутствующее везде и во всём в качестве абсолютной потенциальности, пустоты, содержащей почти бесконечную энергию и почти бесконечный потенциал осуществлений. Теория эта с представлениями о трансцендентном коррелирует ещё и в том отношении, что «мгновенное» распространение влияния (феномен нелокальности в КМ) объясняет распространением возмущения скалярного поля. Само возникновение Вселенной в теории скалярного поля объясняется «мгновенным» распространением этого возмущения вследствие квантовой флуктуации: последняя, будучи неизмеримо усиленной условно бесконечной энергией скалярного поля, и привела к Большому Взрыву[147 - С популярным изложение этой теории можно ознакомиться, обратившись к соответствующей литературе [см. напр.: 244; а также: 6, с. 32; 280, с. 63].].
Здесь нужна ещё одна оговорка. Введение понятия импликативного мира (ИМ) для данного исследования весьма важно. Однако мне не хотелось бы центр проблемы смещать в сторону ожидаемых и надоевших споров о том, существует ли этот мир «на самом деле» или нет. Для меня доказательством его существования являются не только теоретические выкладки и экспериментальные данные КМ, но также и весь опыт мировой культуры, неизменно нацеленный на постижение этого самого мира. Для современного научно-философского интеллекта после Геделя, Поппера и Куна рафинированного в своём скептицизме и гиперкритицизме, в принципе нет никаких достоверных доказательств существования чего-либо, а достижение аподиктического знания мерцает романтической мечтой, ценимой исключительно за её недостижимость. Поэтому я принципиально не настаиваю на валидности своих аргументов в вопросе об онтологии ИМ. Верифицировать его невозможно даже с применением расширенного и модифицированного инструментария нетрадиционных логик (fuzzy logic и др.), ибо для адекватного дискурсивного постижения ИМ недосягаем в принципе. В сетку дискурсивных определений можно вписать разве что косвенные его проявления в мире эмпирическом.
Впрочем, ограниченность бивалентной логики очевидна ещё на «дальних подступах» к образам ИМ – в анализе мифологической когнитивности с её поливалентностью [363, p. 235 и далее]. В мифообразовании, как и в детском мышлении, мы наблюдаем изначальную неиерархизованную рядоположенность разных типов связи: по функции, по смежности, по общности признака, по контексту соположения, по отношению часть – целое и др. Причинно-следственная связь в общепринятом рациональном понимании изначально занимает не более чем равноправное место в общем ряду. И лишь пошаговые, как в онтогенетическом, так и в историко-филогенетическом ряду, активизация и развитие левополушарной когнитивности постепенно выводят каузальность на вершину иерархии осмысляемых типов связи между вещами. Впрочем, победа каузальной логики нередко оказывается мнимой.
В связи с этим, центр внимания акцентируется не на онтологическом аспекте ИМ, а на объяснительных возможностях его концепта. Независимо от того, представляет ли он собой величину онтологическую, таковой концепт, на мой взгляд, безусловно, эвристичен; даже в статусе умозрительной конструкции он позволяет достроить недостающий блок в объяснительных моделях культуры, которые без этого страдают неполнотой и пустотами. Представляя ИМ даже просто как набор эпистем, мы получаем возможность достичь существенно большего уровня глубины в понимании генезиса и жизни культурных систем, как в их структурном, так и в историкоэволюционном аспектах. Не говоря уже о том, что появляется шанс более полно постичь природу сознания и приблизиться к разгадке устройства человеческой ментальности. Если же полагание ИМ как онтологической данности всё же коробит ранимые души релятивистов, механистических физикалистов, картезианских рационалистов, феноменологов, постмодернистов, агностиков, солипсистов, материалистов-марксистов, позитивистов с приставкой «нео» и без таковой и прочая, то довожу до их сведения: на таком полагании НЕ НАСТАИВАЮ, и в спор на эту тему не ввязываюсь.
Сфера, о которой идёт речь, представляет собой особенный, полускрытый срез реальности, фиксируемый научными методами лишь в частных и отдельных своих проявлениях и только в оптике опосредованного осмысления специализированными формами рационалистического сознания. Учитывая заведомую узость фильтров этого сознания, могу утверждать, что большая часть проявлений означенной сферы ускользает от рефлексии: как научной, так и обыденной. При этом разного рода инструменты, повышающие «разрешающую способность» неизбежно оказываются искажающими призмами, через которые просматриваются не столько реалии «того мира» как таковые, сколько привнесённые в них коррективы «отсюда». По-видимому, именно этим вызвано болезненное отторжение данной темы респектабельной академической наукой. Дело не только в том, что в зонах межсистемного сопряжения эволюция невольно вынуждена приоткрывать свои глубинные механизмы, которые обычно тщательно скрывает от человеческого постижения.
Тайна ИМ сама по себе несравненно масштабнее и для человека экзистенциально важнее даже, чем проблемы переходности. А поскольку амбициозный МР с его логикой, оперирующей дискретными единицами анализа, неспособен здесь к адекватной рефлексии, то, не желая признавать своего бессилия, он просто отворачивается от проблемы, объявляя её несуществующей. Касается это, к сожалению, прежде всего, наук о культуре. Вообще, раньше подобные проблемы ставились в русле концепции ноосферы[148 - Среди ближайших коррелятов можно вспомнить и пневмосферу П.А. Флоренского: гипотезу которую он предложил в одном из своих писем В.И. Вернадскому.]. Но «ноосферный бум» прошёл, а проблемы остались. Нужны новые парадигмы.
Итак, о какой же «буферной зоне» идёт речь? В контексте постановки двойной задачи: построения гипотезы взаимоотношений импликативного и эмпирического миров вообще и выявления характера их соотношения в зоне сопряжения биосистемы и культуры в частности, с необходимостью вводится понятие ПСИХОСФЕРЫ. Ощущение эвристичности этого понятия носится в воздухе, но его употребление, на сегодняшний день, весьма произвольно и контекстуально[149 - Так, в русле попыток системной иерархизации всех паранормальных явлений говорят о трёхстепенной психосфере, погружение в которую, достигается с помощью особых психотехник [см. напр.: 395 и др.]. В оккультных, паранаучных и т. н. эзотерических сочинениях понятие психосферы встречается нередко и трактуется весьма широко и расплывчато. При этом наблюдается тенденция к проникновению этого понятия и в собственно научный обиход. Так, в частности, психосфера трактуется как «неразрывное единство психики совокупного человечества и окружающей энергоинформационной среды в их постоянном взаимопроникновении, взаимодействии и развитии» (А.Ю Арапов и А.Г. Ли.).], и потому стремление придать ему статус научного термина представляется вполне обоснованным.
Психосфера как целое, нелокальна и имманентна Вселенной в каждом относительно дискретном её локусе. Можно её представить как «срединную» сферу между импликативным и эмпирическим мирами. Нас будет интересовать главным образом проявления психосферы в секторе сопряжения Культуры с эволюционно ей предшествовавшей «пирамидой систем» и, прежде всего, с её материнским лоном – биосистемой. Проявления психосферы за пределами этой области человеку не даны в непосредственном и даже в бессознательном восприятии и могут быть умозрительно смоделированы лишь на основе косвенных наблюдений и спекулятивных построений. Таковые, возможно, могут представлять некоторый интерес для философа. Для культуролога – вряд ли.
Если прямо задать вопрос: ЧТО такое психосфера, то ответить на него столь же прямо и кратко не удастся. Дело в том, что феномен психосферы восходит к столь глубинным и фундаментальным для человека уровням реальности, что любые её определения оказываются неполными и фрагментарными. С учетом её некоторых характеристик, можно сказать, что психосфера – это и образ некоего пространства, и область проявления особого рода феноменов и даже, в нестрогом смысле, поля. Под другим углом зрения, психосфера – канал связи, устройство фильтрации и преобразования кросс-системных ритмов, сигналов, импульсов Вселенной в воспринимаемые человеком формы. Иными словами, мембрана, преобразующий контур, конвертирующий интенциальные импульсы как эмпирического, так и импликативного миров на «водоразделе» психика – сознание.
В большинстве наблюдаемых человеком проявлений психосфера выступает связующим звеном между биосистемой и Культурой и, будучи причастной к ним обеим, обеспечивает эпигенетическую преемственность макроэвлюционного процесса. При этом, как уже отмечалось в предыдущей главе, усложнение когнитивных режимов и семиотических систем культуры последовательно перекрывает каналы прямого психо-сенсорного восприятия реальности, заменяя последнее всё более сложными и многоуровневыми знаково-символическими опосредованиями. Это положение само по себе чрезвычайно важно, и к вытекающим из него выводам я еще не раз буду обращаться. Погружённость в широко понимаемую дискурсивность приводит к ослаблению каналов прямого восприятия и переживания психосферных явлений, за которыми кроются восходящие к ВЭС кросс-системные связи. Последние не просто «объект», положенный рационально мыслящему рассудку наподобие дискретной вещи или явления. Это область реальности, которая самим своим существованием отрицает рационалистический дискурс с его каузальными зависимостями и построенными на этой основе логическими операциями. Вот почему рациональная наука интуитивно избегает притрагиваться к этому «кощееву яйцу».
Итак, «человеческий» локус психосферы возникает для-культуры и исключительно благодаря появлению человеческого сознания. Именно оно способно воздействовать на особый спектр квантовых процессов и тем самым осуществлять продуктивную медиацию между импликативным и эмпирическим мирами.
Обнаружение психосферы в зоне сопряжения биосистемы и Культуры являет лишь частный случай глобального медиационного процесса, протекающего на всех онтологических уровнях и во всех системах. Мы же имеем дело лишь с тем «локусом» психосферы, который выявляет ВЭС в модальности, доступной человеческому восприятию. Модальность эта определяется тем, что материнской системой для культуры выступает биосистема, и любые воздействия, исходящие от «нижних» ступеней системно-эволюционной пирамиды обнаруживают себя, лишь будучи пропущенными сквозь фильтры биострукур. Однако нелокальность когерентных связей в том и состоит, что они не знают системных перегородок и пронизывают материал системных образований, лишь преобразуясь (конвертируясь) в нём, меняя формы и модальности. Это значит, что психосферные явления свою основу имеют не в биосистеме как таковой – ею, а они всего лишь опосредуются. Проходя же через смыслообразующий контур человеческой ментальности (см. гл.4), они опосредуются вторично. Как на предыдущем эволюционном витке всеобщая интенциональная связь преобразовывалась, проходя через «фильтр» нервной системы живого организма, так и в ходе следующего вертикального эволюционного перехода – антропогенеза – она прошла через ещё одно преобразующее «устройство» – становящуюся человеческую ментальность и при этом сохранила свою субстанциональную основу. Это утверждение, однако, по понятным причинам в принципе невозможно обосновать и доказать логически.
От опосредующих фильтров не свободны ни психосенсорное восприятие, ни акты сознания. Однако прямое восприятие психосферных явлений в обход сознания в принципе возможно, но для оформления опыта, полученного в результате такого восприятия, как правило, в режиме ИСС, без культурных кодов и, следовательно, участия сознания, не обойтись. Желанное для всех без исключения эпох прямое восприятие, дающее, соответственно и прямое знание-переживание о всех уровнях реальности в обход сознания с его фильтрующими и отчуждающими опосредованиями, остаётся своего рода «чёрным ходом», «атавизмом», который Культура старательно преодолевает, но никогда не может преодолеть до конца. Неслучайно взлёты спиритуализма и прорывы к прямому интуитивно-холистическому мировосприятию происходят, как правило, в переходные и кризисные эпохи, когда нормативность традиционных кодификакций ослабевает, и сознание частично освобождается от диктатуры знака.