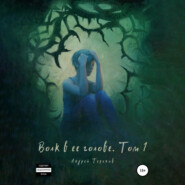По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волк в ее голове. Часть I (бесплатно)
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Периодика.
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС ОТСУТСТВУЕТ
Скорчив телефону недовольную мину, я тыкаю в «Универсальное собрание».
Конаков, Василий Александрович.
Язычество народов в устье Оми с VI тысячелетия до н. э. по XIII век н. э / В. А. Конаков; АН СССР, Отд-ние истории, Ин-т археологии. – М. : Наука, 1986. – 382,[1] с., [2] л. ил. : ил.; 23 см.; ISBN (В пер.) (В пер.) : 3 р. 20 к.
Цитаты из текста:
• стр. 191
океану. Птицы. Композиция с птицами сохранится до XIX в. и отразится, как мы уже видели, в орнаментике оконных наличников, домашней утвари, украшений (кольца, браслеты, ожерелья и др.) Западной Сибири. По всей видимости, эта традиция берет начало ещё в языческих верованиях, где птицы (сороки, орлы и др.) олицетворяли светлых богов и приносили
• стр. 230
Ворон с древних времён пользовался дурной славой. Считалось, что образ чёрной птицы принимают домовые, черти. В ворона перевоплощались души плохих людей («чёрная» душа – «чёрный» ворон). Дом ведьмы можно было узнать по сидящему на нём ворону
• стр. 249
ворон). Чтобы отпугнуть гибельные силы, убитых воронов вешали в конюшне, в хлеву. Пользовались успехом обереги с изображением мёртвых птиц. Согласно поверьям, чёрт, увидев в образе мёртвой птице погибшего собрата, старался держаться от жилища как можно дальше
Я пару раз перечитываю текст, пока его смысл не проступает из марева букв. Оберег? Пускай оберег. Что-то такое и представлялось, хотя Вероника Игоревна вряд ли покупала браслет для защиты от тёмных духов и, скорее, руководствовалась соображениями вроде «Ух, какая красивая штучка».
Телефон возвращается к Ковалю, я – к созерцанию пейзажа. Дорога сужается, и лес подбирается к самым окнам: скребёт-шуршит по стеклу; помаргивает солнцем сквозь кроны деревьев.
Знаете, Приморское шоссе обалденно старое. Оно лет шестьдесят уже уводит машины к плотине, пустыни и туннелям на материковую часть полуострова, и, Богом клянусь, в этой дороге скрывается нечто потустороннее. В советские времена тут возили заключённых ГУЛАГа, и Приморское шоссе превратилось народными устами в Шоссе Ангелов. Потому что летом тела жрут мошкара и гнус, а зимой лютый холод – шансов выжить ноль. Днём это не так заметно, а ночью… Помню, в третьем классе мы заплутали с Дианой по лесу и вышли на Приморку, в её тягостную, неприятную полумглу. Темнота клубилась впереди, темнота клубилась позади, сбоку чернел обрыв. За ним, далеко внизу, пульсировали огни города. Повизгивал ветер, мелькали бельма фар. Мы шли по обочине, и, казалось, очередная машина сшибёт нас, раздавит. Диана, как малыш, вцепилась в мою руку. Она до жути боялась остаться одна – там, на этом мрачном шоссе. Она всегда боялась оставаться одна. Смешно: Диана, которая съехала стоя с Холма Смерти, которую почти ничего не пугало, страшилась лишь одиночества, и одиночество её настигло.
Словно поддавшись моим мыслям, справа мелькает автобусная остановка, за которой, под розовато-золотистым небом, за сизыми елями и промозглым туманом, сгнивает дом Дианы. Мне странно и больно, что он там и что я проезжаю мимо, когда Дианы внутри нет. Будто давным-давно нарушили законы физики, и пространственно-временной континуум в этой точке лопается от напряжения, от неразрешимого противоречия. Трещит по швам.
Неприятный порез от Дианы и несостоявшийся спуск с Холма смерти. Наша невнятная переписка – годами, пятилетками – и неловкий, безумно неловкий разговор вчера. Неказистая каморка на складе и нежилой дом. Неизвестная девушка без лица и ненормальная Диана, которая штурмом берёт машину коллекторов. Эта реальность неслучившегося, необратимого, непоправимого встаёт вокруг меня и внутри меня лесом «не». Зудит, раздирает, огнём выедает солнечное сплетение и опаляет щёки. Я сажусь удобнее, но не могу успокоиться. Смотрю в окно, на экран телевизора, а в голове каруселью мелькают образы: встреча накануне, Диана, Вероника Игоревна, их пустой дом.
Спина и бедра затекают, я вытягиваясь, но сиденье впереди мешает и превращает поездку в маленький ад. В ад Дианы, которой некуда идти и не к кому обратиться. В ад Дианы, которую не защитили никакие обереги. В ад Дианы, которую я попросил оставить меня в покое.
Я подбираю ноги под себя, снова вытягиваю, но мышцы ноют, и сердце ноет, и моя рука нависает над местом пореза.
– Ты чего? – спрашивает Валентин.
Я качаю головой. Действие ещё не осозналось, не пробежало электрическим импульсом по нейронам и только копится, копошится внутри. Мне хочется выключить мысли. Мне хочется отвлечься, потушить невидимое пламя в груди, и на пределе этого желания – там, где оно, подобно графику экспоненты, устремляется к бесконечности – мои пальцы падают на ткань рубашки и со всей мочи вдавливаются в рану.
Сон четвёртый. Над осевшими могилами
Узкой грядой мы поднимаемся к скиту. На отвесных склонах колоннами растут сосны: боком, жопой, корнями, под острым углом, под тупым углом, едва не горизонтально. Много деревьев вырвано, будто прошёл ураган, и стволы не падают на тропу по одной причине: сухая, мёртвая крона вцепилась в живую крону соседей, словно выпрямится, упрётся корнями в землю – поглубже, поровнее – и снова укроется зеленью хвои, и снова потягается с сородичами.
– Окна заколотили, росписи… – Отец Николай показывает на горчично-жёлтую церковь, которая мелькает за стволами, и набирает полную грудь воздуха. Ему словно не хватает дыхания: лицо бледно, очки съехали на кончик носа. – Росписи закрасили.
Несмотря на разницу в летах и телосложении, я выгляжу не лучше: на лбу испарина, рот открыт, и порез болит от каждого движения.
Ну, сам виноват.
– Отопления не было. – Отец Николай тяжёлыми шагами достигает вершины. – Лежанок не было. Спали в одежде, на полу. Конечно, болели.
Мы разбредаемся по асфальтной площадке перед церковью. Минутная стрелка на башенных часах дёргается около двенадцати, между оконцами дремлют лики святых. Выше блестит купол, золотом отражая чистое небо; ласково греет солнце. Весна, свежий воздух. Покой.
– И так каждый скит, – продолжает отец Николай, и даже его благостный голос звучит чужеродно в этом безмятежном месте. – Или карцер из него делали, или штрафной изолятор. Пустынь передали в управление Южного лагеря. А наш с вами посёлок Стрелецкий гордо назывался Северным Стрелецким лагерем особого назначения. Сейчас мы зайдём в церковь и посмотрим рисунки заключённых, но будем все молчать, потому что…
– Потому что играем в молчащую Фролкову? – говорит Коваль и подмигивает мне.
Я усмехаюсь незамысловатой шутке.
– Потому что, Кирюш, Захарьевский скит – скит строгого поста, – заканчивает дед Валентина, подмигивает и мизинцем возвращает роговые очки на переносицу. – А ещё обратите внимание на печку в углу, я потом расскажу, в чём её секрет.
Красные дверцы скрипят, когда отец Николай гурьбой ведёт классы внутрь.
От подъёма к скиту на меня навалилась такая слабость и духота, что я вяло машу рукой и ухожу к краю смотровой площадки. Лицо обдаёт прохладный ветерок. Далеко под ногами, под холмом, тянутся торфяные болота: лужицы, ручейки и озерца цвета спитого чая. Тут и там их прорывают брызги первой зелени, а за рекой и до самого горизонта колышется бескрайнее море сосен. По нему плывут тени облаков: отражаются в воде, укрывают город и море за ним – уже синее, настоящее.
Знаете, Северо-Стрелецк выглядит очень красивым отсюда. Красивым, тихим и грустным. И не от мира сего.
Не знаю, дело ли в ГУЛАГе, в революции или во Второй Мировой, но время оставило в нашем городе незавершённость, прелестный изъян. Вы легко поймаете это ощущение, если окинете взглядом полоски улиц, которые стекаются к морю, эти колдовские леса, эту верфь, которую так и не достроили; бараки окраин, купеческие дома центра и «Лего» новостроек. Чувствуете? Не то озноб, не то холодок пробегает по загривку. Будто на ваших глазах видимый мир ускользает в изнанку.
– При всем том треше, – раздаётся за спиной голос Валентина, – который устроил здесь ГУЛАГ… Ты изгавнялся. – Он резко меняет тон и упирается пальцем в бурое пятнышко на моей рубашке.
Молнией раздирает боль. В глазах белеет, ноют зубы, и пару секунд я не шевелюсь, не дышу. Валентин брезгливо растирает кровь между большим и указательным пальцами.
Ну да, поскольку Диана зарезала Губку-Боба, я нарядился в полосатую (чёрную с синим) рубашку. Как вы поняли, под тканью моя рана: а) болит, б) протекает, в) в шоке после тычка Валентина.
Я промаргиваюсь и смотрю на пятнышко. Оно влажное, оно тёмно-тёмно-красное, от его вида меня ведёт в сторону и мутит.
Снова наденем куртку, Артур Александрович?
Как, если она осталась в автобусе?!
– Кетчуп, – неуверенно выговаривают мои губы.
Валентин поспешно достаёт из рюкзака салфетку и протягивает мне. Я изображаю, что вытираю «кетчуп», а сам едва не мычу от боли. Видно, это отражается на лице, и Валентин хмурится – чувствует неладное.
Надо его отвлечь. Как сквозь туман, я оглядываюсь по сторонам.
– А не может быть, что Вероника Игоревна в одном из этих скитов?
Жёлтые, как янтарь, глаза Валентина расширяются. Взгляд их по-прежнему прикован к пятну. Забавно: человек, который обтошнил все кусты морошки, беспокоится о чужом здоровье.
– Кровь, – шепчет он.
– Да фиолетово. Наверное, поцарапался. Дай сюда! – Я забираю ещё одну салфетку и усиленно тру пятно. Глаза щиплют слёзы. – Спасибки. Насчёт…
– Ты что? Ты плачешь?
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС ОТСУТСТВУЕТ
Скорчив телефону недовольную мину, я тыкаю в «Универсальное собрание».
Конаков, Василий Александрович.
Язычество народов в устье Оми с VI тысячелетия до н. э. по XIII век н. э / В. А. Конаков; АН СССР, Отд-ние истории, Ин-т археологии. – М. : Наука, 1986. – 382,[1] с., [2] л. ил. : ил.; 23 см.; ISBN (В пер.) (В пер.) : 3 р. 20 к.
Цитаты из текста:
• стр. 191
океану. Птицы. Композиция с птицами сохранится до XIX в. и отразится, как мы уже видели, в орнаментике оконных наличников, домашней утвари, украшений (кольца, браслеты, ожерелья и др.) Западной Сибири. По всей видимости, эта традиция берет начало ещё в языческих верованиях, где птицы (сороки, орлы и др.) олицетворяли светлых богов и приносили
• стр. 230
Ворон с древних времён пользовался дурной славой. Считалось, что образ чёрной птицы принимают домовые, черти. В ворона перевоплощались души плохих людей («чёрная» душа – «чёрный» ворон). Дом ведьмы можно было узнать по сидящему на нём ворону
• стр. 249
ворон). Чтобы отпугнуть гибельные силы, убитых воронов вешали в конюшне, в хлеву. Пользовались успехом обереги с изображением мёртвых птиц. Согласно поверьям, чёрт, увидев в образе мёртвой птице погибшего собрата, старался держаться от жилища как можно дальше
Я пару раз перечитываю текст, пока его смысл не проступает из марева букв. Оберег? Пускай оберег. Что-то такое и представлялось, хотя Вероника Игоревна вряд ли покупала браслет для защиты от тёмных духов и, скорее, руководствовалась соображениями вроде «Ух, какая красивая штучка».
Телефон возвращается к Ковалю, я – к созерцанию пейзажа. Дорога сужается, и лес подбирается к самым окнам: скребёт-шуршит по стеклу; помаргивает солнцем сквозь кроны деревьев.
Знаете, Приморское шоссе обалденно старое. Оно лет шестьдесят уже уводит машины к плотине, пустыни и туннелям на материковую часть полуострова, и, Богом клянусь, в этой дороге скрывается нечто потустороннее. В советские времена тут возили заключённых ГУЛАГа, и Приморское шоссе превратилось народными устами в Шоссе Ангелов. Потому что летом тела жрут мошкара и гнус, а зимой лютый холод – шансов выжить ноль. Днём это не так заметно, а ночью… Помню, в третьем классе мы заплутали с Дианой по лесу и вышли на Приморку, в её тягостную, неприятную полумглу. Темнота клубилась впереди, темнота клубилась позади, сбоку чернел обрыв. За ним, далеко внизу, пульсировали огни города. Повизгивал ветер, мелькали бельма фар. Мы шли по обочине, и, казалось, очередная машина сшибёт нас, раздавит. Диана, как малыш, вцепилась в мою руку. Она до жути боялась остаться одна – там, на этом мрачном шоссе. Она всегда боялась оставаться одна. Смешно: Диана, которая съехала стоя с Холма Смерти, которую почти ничего не пугало, страшилась лишь одиночества, и одиночество её настигло.
Словно поддавшись моим мыслям, справа мелькает автобусная остановка, за которой, под розовато-золотистым небом, за сизыми елями и промозглым туманом, сгнивает дом Дианы. Мне странно и больно, что он там и что я проезжаю мимо, когда Дианы внутри нет. Будто давным-давно нарушили законы физики, и пространственно-временной континуум в этой точке лопается от напряжения, от неразрешимого противоречия. Трещит по швам.
Неприятный порез от Дианы и несостоявшийся спуск с Холма смерти. Наша невнятная переписка – годами, пятилетками – и неловкий, безумно неловкий разговор вчера. Неказистая каморка на складе и нежилой дом. Неизвестная девушка без лица и ненормальная Диана, которая штурмом берёт машину коллекторов. Эта реальность неслучившегося, необратимого, непоправимого встаёт вокруг меня и внутри меня лесом «не». Зудит, раздирает, огнём выедает солнечное сплетение и опаляет щёки. Я сажусь удобнее, но не могу успокоиться. Смотрю в окно, на экран телевизора, а в голове каруселью мелькают образы: встреча накануне, Диана, Вероника Игоревна, их пустой дом.
Спина и бедра затекают, я вытягиваясь, но сиденье впереди мешает и превращает поездку в маленький ад. В ад Дианы, которой некуда идти и не к кому обратиться. В ад Дианы, которую не защитили никакие обереги. В ад Дианы, которую я попросил оставить меня в покое.
Я подбираю ноги под себя, снова вытягиваю, но мышцы ноют, и сердце ноет, и моя рука нависает над местом пореза.
– Ты чего? – спрашивает Валентин.
Я качаю головой. Действие ещё не осозналось, не пробежало электрическим импульсом по нейронам и только копится, копошится внутри. Мне хочется выключить мысли. Мне хочется отвлечься, потушить невидимое пламя в груди, и на пределе этого желания – там, где оно, подобно графику экспоненты, устремляется к бесконечности – мои пальцы падают на ткань рубашки и со всей мочи вдавливаются в рану.
Сон четвёртый. Над осевшими могилами
Узкой грядой мы поднимаемся к скиту. На отвесных склонах колоннами растут сосны: боком, жопой, корнями, под острым углом, под тупым углом, едва не горизонтально. Много деревьев вырвано, будто прошёл ураган, и стволы не падают на тропу по одной причине: сухая, мёртвая крона вцепилась в живую крону соседей, словно выпрямится, упрётся корнями в землю – поглубже, поровнее – и снова укроется зеленью хвои, и снова потягается с сородичами.
– Окна заколотили, росписи… – Отец Николай показывает на горчично-жёлтую церковь, которая мелькает за стволами, и набирает полную грудь воздуха. Ему словно не хватает дыхания: лицо бледно, очки съехали на кончик носа. – Росписи закрасили.
Несмотря на разницу в летах и телосложении, я выгляжу не лучше: на лбу испарина, рот открыт, и порез болит от каждого движения.
Ну, сам виноват.
– Отопления не было. – Отец Николай тяжёлыми шагами достигает вершины. – Лежанок не было. Спали в одежде, на полу. Конечно, болели.
Мы разбредаемся по асфальтной площадке перед церковью. Минутная стрелка на башенных часах дёргается около двенадцати, между оконцами дремлют лики святых. Выше блестит купол, золотом отражая чистое небо; ласково греет солнце. Весна, свежий воздух. Покой.
– И так каждый скит, – продолжает отец Николай, и даже его благостный голос звучит чужеродно в этом безмятежном месте. – Или карцер из него делали, или штрафной изолятор. Пустынь передали в управление Южного лагеря. А наш с вами посёлок Стрелецкий гордо назывался Северным Стрелецким лагерем особого назначения. Сейчас мы зайдём в церковь и посмотрим рисунки заключённых, но будем все молчать, потому что…
– Потому что играем в молчащую Фролкову? – говорит Коваль и подмигивает мне.
Я усмехаюсь незамысловатой шутке.
– Потому что, Кирюш, Захарьевский скит – скит строгого поста, – заканчивает дед Валентина, подмигивает и мизинцем возвращает роговые очки на переносицу. – А ещё обратите внимание на печку в углу, я потом расскажу, в чём её секрет.
Красные дверцы скрипят, когда отец Николай гурьбой ведёт классы внутрь.
От подъёма к скиту на меня навалилась такая слабость и духота, что я вяло машу рукой и ухожу к краю смотровой площадки. Лицо обдаёт прохладный ветерок. Далеко под ногами, под холмом, тянутся торфяные болота: лужицы, ручейки и озерца цвета спитого чая. Тут и там их прорывают брызги первой зелени, а за рекой и до самого горизонта колышется бескрайнее море сосен. По нему плывут тени облаков: отражаются в воде, укрывают город и море за ним – уже синее, настоящее.
Знаете, Северо-Стрелецк выглядит очень красивым отсюда. Красивым, тихим и грустным. И не от мира сего.
Не знаю, дело ли в ГУЛАГе, в революции или во Второй Мировой, но время оставило в нашем городе незавершённость, прелестный изъян. Вы легко поймаете это ощущение, если окинете взглядом полоски улиц, которые стекаются к морю, эти колдовские леса, эту верфь, которую так и не достроили; бараки окраин, купеческие дома центра и «Лего» новостроек. Чувствуете? Не то озноб, не то холодок пробегает по загривку. Будто на ваших глазах видимый мир ускользает в изнанку.
– При всем том треше, – раздаётся за спиной голос Валентина, – который устроил здесь ГУЛАГ… Ты изгавнялся. – Он резко меняет тон и упирается пальцем в бурое пятнышко на моей рубашке.
Молнией раздирает боль. В глазах белеет, ноют зубы, и пару секунд я не шевелюсь, не дышу. Валентин брезгливо растирает кровь между большим и указательным пальцами.
Ну да, поскольку Диана зарезала Губку-Боба, я нарядился в полосатую (чёрную с синим) рубашку. Как вы поняли, под тканью моя рана: а) болит, б) протекает, в) в шоке после тычка Валентина.
Я промаргиваюсь и смотрю на пятнышко. Оно влажное, оно тёмно-тёмно-красное, от его вида меня ведёт в сторону и мутит.
Снова наденем куртку, Артур Александрович?
Как, если она осталась в автобусе?!
– Кетчуп, – неуверенно выговаривают мои губы.
Валентин поспешно достаёт из рюкзака салфетку и протягивает мне. Я изображаю, что вытираю «кетчуп», а сам едва не мычу от боли. Видно, это отражается на лице, и Валентин хмурится – чувствует неладное.
Надо его отвлечь. Как сквозь туман, я оглядываюсь по сторонам.
– А не может быть, что Вероника Игоревна в одном из этих скитов?
Жёлтые, как янтарь, глаза Валентина расширяются. Взгляд их по-прежнему прикован к пятну. Забавно: человек, который обтошнил все кусты морошки, беспокоится о чужом здоровье.
– Кровь, – шепчет он.
– Да фиолетово. Наверное, поцарапался. Дай сюда! – Я забираю ещё одну салфетку и усиленно тру пятно. Глаза щиплют слёзы. – Спасибки. Насчёт…
– Ты что? Ты плачешь?