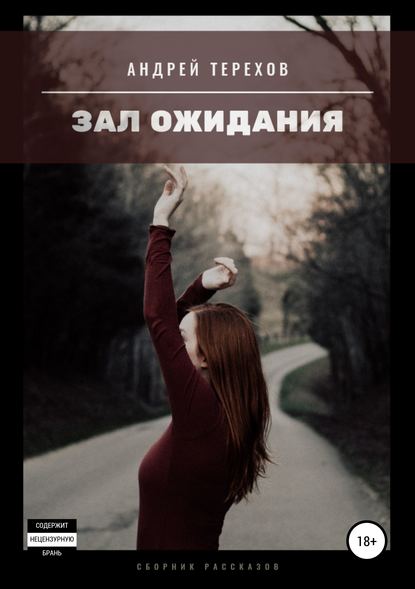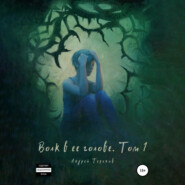По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зал ожидания (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты не знаешь, почему Тася была одна все праздники? Кроме посиделок с тобой.
– Так это, – Оля разводит руками и едва не прожигает сигаретой обивку двери, – пост. Так-то вернее с гаданием.
– Каким гаданием? – удивляюсь я. Я еще в силах удивляться, ур-ра!
– Святочное гадание. Ты, часом, не из параллельной вселенной?
Оля сумбурно рассказывает, что Тася во время интервью заинтересовалась гаданиями и, вроде бы, решила попробовать. Для ритуала требовались церковные свечи и зеркало. Свечи и зеркало.
Треснутое зеркало в пакете и свечи из сейфа Н.С.?
У меня начинает крутить под сердцем.
Акт 9 Занавес
Я поднимаюсь к Тасе и неловко жму на звонок. Слышится мультяшный смех. Квартирная площадка, несмотря на зиму, вся в цветах: жирный лавр, алое, бархатцы, рододендрон. Тут и там детские игрушки.
Я звоню снова, и Тася наконец открывает: по локоть в мыле, в левой руке – губка, на правой – бинт. Пахнет лимонным моющим средством. Улыбка девушки натягивается, как стальная пружинка, щеки вспыхивают.
– Ух. Дениска.
– Ты что-то увидела в зеркале? – говорю я как-то странно. Эй, там! Звукорежиссер!
– Как… Что? – Тася удивленно качает головой. – Откуда?.. Что?!
Я унимаю дрожь в голосе и тихо повторяю:
– Просто скажи, что ты видела? Ты же не веришь в это?
Зрачки девушки расширяются. Она отодвигается и машинально вытирает лоб рукой. На белой коже, под белыми волосами, остаются мыльные разводы.
– Дениска…
– Что у тебя с рукой? Что ты видела в зеркале?
– Нас! Я видела нас. Сначала все чудесно, а потом… видимо, пожар. Наши тела выносят под белыми простынями. Доволен?
Я вспоминаю видео. Шрам на белой безвольной руке мертвеца. Правой, как и у Таси. Меня бросает в пот.
– Таська? – доносится изнутри мужской голос. – Все нормально? Одеть штаны?
Лицо у Таси такое, будто она хочет провалиться сквозь землю. От невидимого Василия начинает подташнивать.
– О Боже, – девушка затравленно оглядывается и кричит: – Нет! Это… это ЖЭК! Насчет счетчиков!
– Так я в них разбираюсь! – орет из квартиры стартапер. – Я сейчас! Только носки найду. Жди!
Тася закрывает глаза и шумно выдыхает нечто вроде "идиот".
– Ты же не веришь в эти предсказания? – осторожно спрашиваю я. Кого я убеждаю? Ее или себя?
– Какая разница?
– Это же бред! – я нервно улыбаюсь. – Ты чего? Это бред, просто бред. Бред!
– Этот бред уже сбывается! Все мелочи, все образы, все звуки! Тот светофор, пара в лифте, надпись из песни, сообщение твоей… – да все! – Тася не замечает, что стиснула губку, и на пол, на желтые с паровозиками носки струится мыльная вода. – О Господи, Дениска, просто уходи и не возвращайся. Ты ведь этого хотел? Ведь этого? – в глазах девушки что-то мелькает. – Потому что я видела нас, и мы казались счастливыми, перед тем пожаром. Де…
– Вот и я! – на сцене появляется полуголый Василий. Улыбка до ушей, волосы потные, всклокоченные. – Теперь забудьте, что говорили с ней, она в технике курица. Говорите мне.
Такое ощущение, будто мы с Тасей все еще в лифте, и трос оборвался, и кабина проваливается в заснеженный ад, а в ушах пульс грохочет, в ушах воздух ревет; и ноги отрываются от пола.
Тася одеревенело смотрит на меня, затем шевелит красивой головой.
– Уже все. Денис Владимирович уходит. Сейчас мы не сможем поставить эту модель, у нее плохие показатели. Может быть, потом? Как-нибудь, когда…
Может быть. На подбородке ямочка, а глаза всегда лукавые и будто прищуренные.
Я возвращаюсь домой. От батарей жарко, холодильник хрюкает; в желудке у меня ворочаются ледяные глыбы. Что-то призрачное реет на краю сознания, что-то давнее, что-то ускользающее за стены, ночь, города. Остановись! Я открываю окна, словно могу догнать это далекое мгновение, и в стены ударяет гул машин. Свежий ветер волочит по полу тысячи самолетиков, затем поднимает один за другим и начинает кружить по комнате. Слышится шелест и какой-то звук, похожий на "тррр".
Может быть. На подбородке ямочка, а глаза всегда лукавые и будто прищуренные. – Может быть, – говорю я несущимся мимо самолетикам. – Может быть, один из вас доберется до Токио. Первый терминал, северное крыло. Зал ожидания. 2008 год.
Три дня Золотарева
С тех пор Золотарев хромал. Порой он, конечно, пробовал ходить без клюшки, но давалось это тяжело, с болью в полуживой ноге. И тогда проступали бугры желваков на лице – узком, вытянутом, как у шакала; лоб покрывался потом, глаза суживались.
Золотареву было тридцать семь. Прекрасный возраст для повышения, для новых достижений – чего только душа желает, – и страшноватый для увольнения по состоянию здоровья.
– Слышишь? – поднял вверх руку Севрский и заулыбался. Лысый, огромный человек в зеленоватой форме – точно вставший на дыбы дракон с острова Комодо.
Золотарев еле заметно покачал головой.
– Не слышу.
Это "слышишь" предваряло обычно какую-то угловатую шутку. За годы службы Золотарев научился воспринимать их в качестве необходимого зла, мол, в жизни никогда все идеально не бывает, но раздражало безмерно.
– Эти стены говорят, что дерьмом пахнет, Золотарь. Кто без тебя разгребать будет?
"Фиктивный друг", – так мысленно называл генерал-майора Золотарев. Пятнадцать лет они вместе работали, отмечали праздники, провожали в последний путь сослуживцев, но до сих пор в обращение Севрского чувствовалось какое-то высокомерие. Впрочем, не без причины: и моложе, и старше по должности, и популярнее среди коллег. А вот Золотарева никто – совсем никто – особо не любил.
– Давай подгребу напоследок.
Севрский махнул рукой.
– Иди домой, налей себе чаю, стисни жену и привыкай к гражданке. Приходит пора и сложить оружие.
– Гвардия умирает, но не сдается, – Золотарев осмотрел стол, усеянный папками, и принялся их нервно перебирать. – А пока не подписали, я не уволен. Ну, какое тут поинтереснее?
– Ты мне дашь работать? – скорее весело, чем возмущенно спросил Севрский.