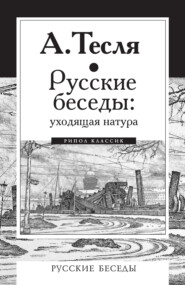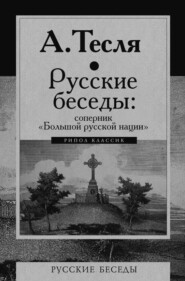По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русские беседы: лица и ситуации
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Русские беседы: лица и ситуации
Андрей Александрович Тесля
Русские беседы
Серия очерков и заметок, представленная в этой книге, раскрывает некоторые из ключевых сюжетов русской интеллектуальной истории того времени, связанных с вопросом о месте и назначении России, то есть о ее возможном будущем, мыслимом через прошлое.
В первой книге серии основное внимание уделяется таким фигурам, как Петр Чаадаев, Николай Полевой, Иван Аксаков, Юрий Самарин, Константин Победоносцев, Афанасий Щапов и Дмитрий Шипов. Люди разных философских и политических взглядов, разного происхождения и статуса, разной судьбы – все они прямо или заочно были и остаются участниками продолжающегося русского разговора.
Автор сборника – ведущий специалист по русской общественной мысли XIX века, старший научный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных наук БФУ им. Канта (Калининград), кандидат философских наук Андрей Александрович Тесля.
Андрей Тесля
Русские беседы: лица и ситуации
Рецензенты: главный редактор журнала «Полития», профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор политических наук С. И. Каспэ; зав. Кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета, доктор философских наук, профессор Л. Е. Бляхер
Предисловие
В этот сборник вошли статьи вполне однородного содержания: все они посвящены русской интеллектуальной истории XIX – начала XX века, подавляющая их часть фокусируется на каком-либо конкретном персонаже и уже исходя из его воззрений, его интеллектуальной эволюции в той или иной степени очерчивает контекст. Моей целью не было нарисовать единую картину, дать последовательное изложение – мне представляется, что в многоаспектности, очерковости есть свои преимущества не только практического, но и теоретического плана: ведь ради последовательности изложения мы нередко обречены жертвовать непоследовательностью и разноплановостью исторической реальности. Даже если ограничиваться лишь сферой интеллектуальной истории, русский XIX век никак не может быть сведен без невосполнимых потерь к одной или даже нескольким четко прочерченным линиям развития. Они существуют, разумеется, и хорошо известны например, когда речь заходит о переходе «от романтизма к реализму» или от дворянской к разночинской культуре), но это движение не равномерно и, что важнее, не едино для разных групп и сообществ. Так, ориентируясь на литературные петербургские образцы 1840-х, не получится представить себе эстетические воззрения харьковчан тех же лет: они живут в другом времени, но дело не только в отставании – ведь при этом они сами знают об этой рассинхронизации и, следовательно, переживание ими «современности» включает и подобное знание. В других случаях, напротив, взгляды, вырастающие из дискуссий, давно вроде бы «пережитых» и «изжитых» в центре, возвращающиеся в него, оказываются новыми, производят неожиданные последствия – уже в силу того, что контекст, из которого воззрения вышли, и контекст, в который они попали, принципиально различны.
Статьи, объединенные под одной обложкой, писались на протяжении нескольких последних лет – за это время представления самого автора успели измениться. Мне кажется, что перемена эта скорее экстенсивная – но в данном случае довольно сложно адекватно судить о самом себе. Отбирая тексты, я постарался включить те, что представляются мне в настоящий момент наиболее удачными или раскрывающими те аспекты, которые по сей день актуальны в моих глазах. Однако я решил не перерабатывать эти тексты, за исключением незначительной правки оставив их в том виде, в каком они были в свое время опубликованы или подготовлены к печати: на мой взгляд, нет смысла редактировать один и тот же текст, добиваясь совершенства: если суждения изменились радикально, то лучше написать новый, если же нет, то стоит ограничиться уточняющим примечанием. Сознаю, что далеко не все со мной в этом согласятся, но мне лично проще написать заново, чем вновь и вновь переписывать и отшлифовывать уже сделанное: это не вопрос выбора, а вопрос склонностей – тот, кто умеет шлифовать, добьется прекрасного результата, но неспособный к этому лишь напрасно потратит время – и хорошо, если только свое.
Мне представляется, что сейчас, в условиях мира модерна, неразумно искать в прошлом готовых примеров и образцов – его роль в ином: говоря словами XIX в., «всю цену истории составляет самосознание»[1 - Победоносцев К. П. Вечная память. Воспоминания о почивших. – М.: Синодальная типография, 1896. С. 110.]. Прошлое дает нам возможность увидеть иное, дистанцироваться от настоящего – и в то же время, через осознание многообразия путей к/в современности, понять ее и свое положение в ней. Не мне судить, насколько полезны для других окажутся экскурсы в прошлое и отклики на современные рассуждения о прошлом, собранные под этой обложкой – но, надеюсь, они окажутся по меньшей мере любопытны – ведь история должна быть занимательна.
Вместо введения
О памяти, истории и интересе
До XIX в. напряжения между «историей» и «памятью» (пока оставим эти понятия без прояснения, несколько конкретизируя их дальше) не существует. «Историк» здесь (а скорее «архивариус») – специалист по памяти, тот, кто помнит и ведает больше, чем остальные, и чья память может оказаться как полезной, в виде припоминания чего-то ситуативно актуального, уместного – вспоминания какого-нибудь обстоятельства времен прошедших, подходящего в качестве аргумента для споров сегодняшнего дня, либо, равным образом, вредной – когда те же обстоятельства лучше забыть или оставить не-вспомненными (как, например, для остроумцев и спорщиков XVIII в. хорошее знакомство со святоотеческими писаниями было эффектным орудием в дебатах с их оппонентами, нарушая монополию памяти (и забвения) «клерикалов» – или, и ранее и позже, споры между «галликанами» и «ультрамонтанами» были во многом состязанием в «неудобных припоминаниях» прецедентов прошлого, упорно не укладывавшихся ни в одну последовательную теоретико-юридическую конструкцию).
«История» здесь существует не для того, чтобы помнить о разрыве, а дабы воссоздавать связь, выстраивать преемственность, в том числе обуславливая эффект «неизменности памяти» – представления о том, что памятуемое остается одним и тем же. Это не только и даже не столько механизм «забвения», сколько устройство, делающее невозможным сам вопрос о «забытом» в точках напряжения: забытым оказывается сам акт забвения, поскольку нет «шва», обозначающего целенаправленное забвение (в отличие от ситуации, когда мы не можем, например, восстановить биографию лица, поскольку документы из его дела были уничтожены: пустота архивного дела, акт изъятия и уничтожения или менее явные следы остаются знаками «отсутствующего прошлого», создают «негативную память», память о самом акте забвения).
Историк, условно говоря, после Ранке, открывшего архив, не специалист (или, во всяком случае, не только специалист) по памяти, но тот, кто открывает отсутствующее в памяти. Эта разница очевидна в первые десятилетия XIX в. Для одних история встроена в прежнюю логику: новый историк рассказывает то, что рассказывали его предшественники, рассказывает так, чтобы это было понятно и интересно его современникам (история ведь еще остается родом «изящной словесности»), рассказывает «памятуемое», переводя из одной формы памяти в другую (из архива, из библиотеки – в рассказ). Так, замечательный польский историк Самуил Брандтке в 1820 г. передавал в своей «Истории государства польского» легендарные предания о первых польских королях не потому, что считал их достоверными (совсем напротив, прямо помещая их в разряд «легенд»), и не потому, что считал их древними (оговаривая позднее происхождение): он рассказывает об этом, поскольку об этом рассказывали его предшественники, это входит в «общую память» и он здесь – еще один, крайний на этот момент, участник в цепочке передающих предание.
Для других же историк – не тот, кто сохраняет, воспроизводит буквально или пересказывает документ, но, используя язык принуждения, характерный в данном случае, «допрашивает» его, дабы узнать, о чем документ молчит, что в нем содержится неявным образом. Следовательно, его надлежит не «помнить», а с ним необходимо работать – это не память, а работа с памятью (ее при желании можно уподобить работе с воспоминаниями в психоанализе, впрочем, вряд ли аналогия может остаться достаточно точной уже на втором шаге).
Прошлое при этом – принципиально едино; соответственно, единой надлежит быть и памяти о нем, и истории, которая (уже в своем новом, научном статусе) должна обеспечить «правильное памятование». Иными словами, история – инстанция, контролирующая память, что верно как для Хальбвакса, так и для Нора, причем, если первый не обеспокоен потенциальной разрушительностью истории для разных уровней памяти (ведь «история» обладает статусом «науки» и, следовательно, говорит от имени «истины»), то для второго разрушительность истории по отношению к «национальной памяти» допустима, поскольку больше нет нужды в ее сохранении, сообщество (политическое, культурное и т. д.) поддерживается другими средствами, поэтому оказывается возможна работа истории над национальной памятью и ее деконструкция.
Проблемы, которые здесь выходят на поверхность, связаны не с множественностью памятей, но с единством истории. Множественность памятей не составляет проблемы, например, для традиционного или раннемодерного европейского общества, поскольку это память разных групп и сообществ, в том числе и тех, к которым принадлежит индивид (единство его памяти утверждается в довольно ограниченном объеме – требуемом исповедью, где выстраивается «личность» и возникает отграничение «интимного» от «частного», как противостоящего «публичному») и которые, зачастую, на своем уровне также воспроизводят сосуществование «коммуникативной» и «культурной» памяти, начиная от семьи, материально фиксирующей память на последних листах Библии (напр., в голландском семействе XVII в.) или псалтыри, в семейных иконах и т. д. (как ярославские купцы XVIII в.) и до цеха или масонской ложи со своими реестрами и архивами. «Большие нарративы» не столько конкурируют, сколько сосуществуют друг с другом – формируемые духовенством (в виде непрерывности священной истории, переходящей в историю церкви, чтобы завершиться апокалипсисом) и светской администрацией (выстраивающей последовательность по образцу галереи, как это впервые подробно рассмотрел Арьес: последовательность персон, портретов, каталога и биографий образует цепь «мест памяти», которая затем перейдет, например, от «Царского титулярника» к суворинским и сытинским брошюрам). Однако между ними редок конфликт – уже в силу того, что каждая из этих «памятей» принадлежит своему сообществу и «припоминается» применительно к нему.
Конфликты, которые станут центральными в последнее столетие – не только вокруг национальных/ политических «памятей», а во многом и не столько из-за давления «единой памяти», «национальной», сколько из-за того, что других «памятей» становится меньше и/или они оказываются зримо разрушающимися, поскольку исчезают или ослабевают те группы, которые могли поддерживать многоформационную память. В результате индивид оказывается в ситуации, когда обладает лишь личной и политической памятью, со слабыми, неустойчивыми и мерцающими памятями между ними – индивидуальную память необходимо, оказывается, «крепить» в «большой памяти», как описывает тот же Хальбвакс в своем известном эссе с зачином о детском воспоминании парада (точнее, о своем воспоминании виденного в детстве).
Тем самым меняется и позиция историка – если ранее он собирал «единую историю», выправлял «память», делая ее управляемой, осуществляя над нею контроль, прореживая множественность разбегающихся «памятей» и осуществляя работу с воспоминаниями, чтобы сформировать единую реконструкцию (способ упорядочивания мог быть различным, но принципиально иерархичным), то теперь он вновь оборачивается специалистом памятования, а не только специалистом по памяти (в том числе и потому, что сама потребность в памяти оказывается все больше под вопросом, по крайней мере относительно прежнего объема памятуемого не посредством накопительной памяти – такое впечатление, что рост последней освобождает от необходимости удерживать объем других формаций памяти). При этом обращенность к собственному положению, собственному «памятованию» как источнику/импульсу своей деятельности (собственному на разных уровнях – от индивида до тех групп и сообществ, в которые он входит и с которыми себя соотносит) задает новый интерес – удержание множественности «памятей» как неиерархизируемых без остатка (или, по крайней мере, не включаемых лишь в одну иерархию), т. е. вновь делает историю сознающим себя «искусством памяти».
Часть 1
Дворянские споры
1. Неизменность Чаадаева
Чаадаев был умен, остер на язык и саркастичен; он был недоволен почти всем, что делалось вокруг него; он держался независимо и жил вне службы; наконец, он был друг декабристов и опального Пушкина и за его статью был закрыт журнал. Таких данных, пожалуй, и теперь было бы достаточно, чтобы составить человеку репутацию либерала.
М. О. Гершензон, 1908 г.
Московский старожил
Когда 14 апреля 1856 г. о флигеле дома на Новой Басманной, который он занимал более двух десятилетий, скончался Петр Яковлевич Чаадаев, «Московские ведомости» напечатали следующее объявление:
«Скончался один из московских старожилов, известный во всех кружках столицы».
Затруднение редактора в подыскании слов для определения покойного не сложно понять: Чаадаев был одной из московских знаменитостей, но в то же время не обладал ни чинами, ни каким-либо официальным положением, которое можно было упомянуть в некрологе; некогда будучи состоятелен – к концу жизни едва имел чем жить, да и то скорее по доброте людей, его окружавших. Даже литератором назвать его было невозможно – ведь при жизни были опубликованы всего две его статьи, причем первая – размером в четыре страницы, а вторая, которую в сравнении с первой можно назвать обширной, уместилась менее чем на полусотне страниц совсем небольшого формата.
Чаадаева знала вся Москва – т. е. все те, кого называли «хорошим обществом», но за пределами этого круга его известность сводилась к скандальной истории публикации «Философического письма к даме» и высочайшему объявлению сумасшедшим. Впрочем, и салонная известность Чаадаева во многом покоилась на тех же основаниях – он был интересен, необычен, об идеях его судили превратно, сводя до нескольких реплик, как то обычно и бывает, основания которых легко найти в его собственных текстах, но которые от повторения и не очень задумывающейся интерпретации уходили все дальше от исходного содержания.
Уже при жизни, а в особенности в ближайшее десятилетие после смерти, возобладали два основных способа понимать взгляды Чаадаева. Для одних, в первую очередь для Герцена, еще при жизни Чаадаева успевшего написать о нем в своем заграничном, обращенном европейской аудитории памфлете «О развитии революционных идей в России» (1851), он вошел в длинный перечень борцов за свободу – между декабристами и самим Герценом:
«[…] письмо разбило лед после 14 декабря. Наконец пришел человек, с душой, переполненной скорбью; он нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что за десять лет накопилось горького в сердце образованного русского. Письмо это было завещанием человека, отрекающегося от своих прав не из любви к своим наследникам, но из отвращения; сурово и холодно требует автор от России отчета во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния. […] Да, этот мрачный голос зазвучал лишь затем, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что она представляет собой «лишь пробел в человеческом сознании, лишь поучительный пример для Европы». Он сказал России, что прошлое ее было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у нее нет»[2 - Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Собрание сочинений. В 30 т. Т. VII. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 221–222.].
Если для Герцена религиозное содержание идей Чаадаева объяснялось как следствие места и времени, нечто, что скрывает совсем иное содержание – скрывает в том числе и от самого автора, то для круга «русских католиков» именно оно предсказуемо стало основным. Чаадаев в интерпретации о. Ивана Гагарина (издавшего в 1862 г. в Париже по копиям, предоставленным М. И. Жихаревым первое собрание сочинений Чаадаева, на полвека ставшее основным источником для тех, кто не желал ограничиваться краткими сведениями из вторых и третьих рук) стал представителем католической идеи в России – более того, тем, кто осмелился не только признать правоту католичества, но и гласно заявить об этом в момент утверждения православия в качестве первого члена национальной триады.
Следует отметить, что каждая из этих интерпретаций не была лишена оснований – они не были заблуждением, но в то же время рисовали облик совсем иного лица, не совпадающий с Чаадаевым. Помещая Чаадаева в контекст «развития революционных идей», Герцен и его последователи предлагали счесть религиозное основание его мысли – исторической подробностью, но при таком подходе речь шла уже не о Чаадаеве, а об общественном значении его идей, несмотря или вопреки тому, что имел в виду и стремился сказать сам автор. В логике «русского католичества» затруднение было еще более примечательным – Чаадаев сам не перешел в католичество, т. е. либо между его словами и его делами образовывался разрыв, либо же его слова были поняты не вполне, если предположить, что Чаадаев был достаточно последователен хотя бы в том, что объявлял важнейшим.
Жизнь Чаадаева в глазах публики вся сфокусировалась вокруг событий нескольких последних месяцев 1836 г., когда в не очень популярном, сравнительно мало читаемом московском журнале «Телескоп» вышла его статья: «это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно, надобно было проснуться»[3 - Герцен А. И. Былое и думы: Части 4–5 / Коммент. Г. Г. Елизаветиной. – М.: Художественная литература, 1982. С. 111.]. До этого времени о нем знали не очень много – после этого о Чаадаеве в основном знали только эту историю.
Петр Яковлевич Чаадаев был вторым (и последним) ребенком в семействе Якова Петровича Чаадаева и Натальи Михайловны, урожденной княжны Щербатовой, так что Михаил Михайлович Щербатов, депутат Уложенной комиссии и автор «Истории Российской»[4 - А также знаменитого памфлета «О повреждении нравов в России», который впервые опубликует уже после смерти внука автора Герцен (1858) в своей лондонской типографии, в одном томе с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева.], приходился Петру Яковлевичу дедом. Родившись 27 мая 1794 г., Чаадаев уже не застал кн. Щербатова, скончавшегося четырьмя годами ранее – впрочем, и родителей своих ему запомнить не довелось: отец умер в следующем году, а еще два года спустя скончалась и матушка, так что воспитание двух братьев (Михаил родился в 1792 г.) взяла на себя тетушка, Анна Михайловна Щербатова, и дядя, Дмитрий Михайлович Щербатов.
По словам М. И. Жихарева, наиболее близкого к Чаадаеву в последний период его жизни человека, тетушка, получив известие о смерти своей сестры, «в самое неблагоприятное время года[5 - Наталья Михайловна Чаадаева скончалась 8 марта 1797 г.], весною, в половодье, не теряя ни минуты отправилась за ними, с опасностью для жизни переправлялась через две разлившиеся реки – Волгу и какую-то другую, находившуюся по дороге, добралась до места, взяла малюток, привезла в Москву, где и поместила вместе с собой, в небольшом своем домике, бывшем где-то около Арбата»[6 - Жихарев М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи (Мемуары современников) / Под ред. И. А. Федосова; вступ. ст. Н. И. Цимбаева. – М.: Изд-во МГУ, 1989. С. 51.]. Тетушке было суждено дожить до 1852 г. и скончаться в глубокой старости (родилась она в 1761 г.), непрестанно заботясь (как умея – была она женщиной доброй, но простой) о своих племянниках, из которых старший, Михаил, непременно отвечал на это со своей стороны почтительными письмами. В 1834 г. она, например, писала последнему:
«Благодарю Всевышнего, что избрал меня служить вам матерью в вашем детстве, и в вас нахожу не племянников, но любезных сыновей; ваше благорасположение доказывает мне вашу дружбу, но и я, будьте уверены, что я вас люблю паче всего; нет для меня ничего любезнее вас, и тогда только себя счастливою нахожу, когда могу делить время с вами»[7 - Цит. по: Гершензон М.О. П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление // Избранное. В 4 т. Т. 1: Мудрость Пушкина / Сост. С. Я. Левит, коммент. Е. Ю. Литвин, В. Ю. Проскурина. – М.; Иерусалим: Университетская книга, Gesharim, 2000. С. 384.].
Состояние досталось им от родителей более чем достаточное – около одного миллиона рублей на двоих, воспитание они получали сперва домашнее, а затем в 1808 г. поступили в Московский университет, где их сотоварищами сделались А. С. Грибоедов, Д. А. Облеухов, братья Л. и В. Перовские, И. М. Снегирев, Н. И. Тургенев, И. Д. Якушкин.
Для этого времени и этой среды дружба значила очень много – отношения, обретенные в юности, продолжались всю жизнь[8 - См.: Жихарев М. И. Указ. соч. С. 58, 66.]. Так, после приговора по делу декабристов, по которому Якушкин за умысел на цареубийство был приговорен к смертной казни, замененной каторгой, Чаадаев навещает его семью, как и брат Михаил, и затем, по мере того как сыновья Якушкина, Вячеслав (1823 г. р.) и Евгений (1826 г. р.), подрастали, охотно принимал их на Басманной, а уже после смерти Чаадаева Евгений Якушкин собирал материалы о нем, сожалея, что не успел записать устные воспоминания Петра Яковлевича, опубликовал в «Библиографических записках» (1861, № 1) ряд его писем и способствовал изысканиям о Чаадаеве М. Н. Лонгинова, близкого в то время к нему библиографа и библиофила[9 - См.: Равич Л. М. Евгений Иванович Якушкин (1826–1905). – Л.: Наука, 1989. 61–70.].
На исходе весны 1812 г. он вместе с братом зачисляется подпрапорщиком в гвардию, в Семеновский полк, и проходит кампанию 1812 г., а затем Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг., снискав дружбу сослуживцев и уважение старших. По окончании походов и возвращении из Франции переводится (теперь уже один, без брата, продолжившего службу в Семеновском) в лейб-гвардии гусарский полк, расквартированный в Царском Селе – там, в императорской резиденции, он часто бывает в доме Н. М. Карамзина, где в июне или июле 1816 г. знакомится с А. С. Пушкиным[10 - Дружбой с ним он будет в особенности гордиться в старости – публикация в 1854 г. в «Московских ведомостях» (№№ 71, 117, 119) «Материалов для […] биографии» Пушкина, составленных П. И. Бартеневым [см. переиздание: Бартенев П. И. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников / Сост., вступ. ст. и примеч. А. М. Гордина. – М.: Советская Россия, 1992], в которых он не будет упомянут, вызовет крайнее раздражение со стороны Чаадаева, писавшего С. П. Шевыреву: «Вы, конечно, заметили, что, описывая молодость Пушкина и года, проведенные им в Лицее, автор статей ни слова не упоминает обо мне, хотя в то же время и выписывает несколько стихов из его мне послания и даже намекает на известное приключение в его жизни, в котором я имел участие, но приписывая это участие исключительно другому лицу. Признаюсь, это умышленное забвение отношений моих к Пушкину глубоко тронуло меня. Давно ли его не стало, и вот как правдолюбивое потомство в угодность к своим взглядам хранит предания о нем! Пушкин гордился моею дружбою; он говорил, что я спас от гибели его и его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому, а г. Бартеньев находит, что до этого никому нет дела, полагая, вероятно, что обращенное потомство, вместо стихов Пушкина, будет читать его Материалы» (II, 272–273). [Здесь и далее все ссылки на издание: Чаадаев П. Я. (1991) Полное собрание сочинений и избранные письма. В 2 т. / Отв. ред. З. А. Каменский. – М.: Наука, 1991. – даются в тексте, римская цифра указывает номер тома, арабская – номер страницы.]].
Карьера Чаадаева идет успешно – на исходе 1817 г. он назначается адъютантом гр. И. В. Васильчикову, одному из самых близких к императору Александру I лиц, и, с общей точки зрения, может рассчитывать на быстрое дальнейшее повышение, будучи лицом известным и ценимым высшими чинами империи. Но его собственные планы лежат в иной области – брат его уже ранней весной 1820 г. выходит в отставку и поселяется в Москве, а сам Чаадаев подает прошение об отставке на исходе декабря того же года и получает ее в феврале 1821 г.
Столь неожиданный при свете внешних обстоятельств поступок обрастает массой слухов и предположений, Ф. Ф. Вигель расскажет, что отставка выйдет из неудовольствия государя на опоздание Чаадаева с известием о восстании в Семеновском полку:
«[…] гусар и доктор философии в отношении к наряду был вместе с тем и совершенная кокетка: по часам просиживал он за туалетом, чистил рот, ногти, протирался, мылся, холился, прыскался духами. Дорогой он предавался тем же упражнениям и оттого с прибытием опоздал двумя сутками»[11 - Вигель Ф. Ф. Записки. В 2 кн. Кн. 2. – М.: Захаров, 2003. С. 982.].
Ту же историю в сокращенном виде повторит, например, хороший московский знакомый Чаадаева более поздних лет М. А. Дмитриев[12 - Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни / Подгот. текста и примеч. К. Г. Боленко, Е. Э. Ляминой и Т. Ф. Нешумовой; вступ. ст. К. Г. Боленко и Е. Э. Ляминой. – М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 365.] и знавший Чаадаева большую часть его жизни Д. Н. Свербеев[13 - Свербеев Д. Н. Мои записки / Изд. подгот. М.В. Батищев, Т. В. Медведева; отв. ред. С. О. Шмидт. – М.: Наука, 2014. С. 519–520.]. История эта, однако, прямо противоречит достоверно известным фактам, и предложить свою версию происшедшего попытался уже М. И. Жихарев (вынужденный, впрочем, строить лишь гипотезы, поскольку сам Чаадаев всегда отказывался говорить на этот счет). Согласно Жихареву, Чаадаев поддался тщеславному чувству, отправившись с донесением, однако затем был вынужден осознать, что является вестником и одним из орудий кары, которая должна постигнуть его бывших сослуживцев по Семеновскому полку, – получить ближайшее почетное назначение, флигель-адъютантство, значило бы получить награду за предательство.
Оказавшись в тупике, Чаадаев по размышлению и избрал отставку, оставляющую его совесть и, что гораздо важнее, его честь чистыми[14 - См.: Жихарев М. И. Указ. соч. С. 71–80.]. Но и эта трактовка была оспорена с большим набором аргументов М. О. Гершензоном, отметившим, что происшедшее не повлияло на репутацию Чаадаева среди друзей и знакомых, сослуживцев по Семеновскому полку и по гвардии в целом – никак не отозвавшись в переписке, никогда не упоминаясь: никто не думал ставить ему поездку с официальным донесением от его начальника, гр. Васильчикова к государю, в вину[15 - См.: Гершензон М. О. Указ. соч. С. 389–391.]. Еще одну версию предложил сравнительно недавно Ю. М. Лотман, полагавший, что Чаадаев в своем поступке ориентировался на литературный образец – маркиза Позу, отставка была обращена именно к государю как адресату, демонстрируя бескорыстие и тем самым давая право высказывать свое суждение и вес высказываемому[16 - См.: Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). – СПб.: Искусство-СПБ, 1994. С. 346–352.].
Вопреки столь изощренной версии, как последняя, видимо, стоит согласиться с М. О. Гершензоном, искавшим истоки решения в религиозном кризисе, переживаемом Чаадаевым. Об отставке он начинает писать гораздо раньше событий в Семеновском полку – извещая брата, что прошение его удовлетворено, он говорит:
«Итак, ты свободен, весьма завидую твоей судьбе и воистину желаю только одного: возможно скорее оказаться в том же положении. Если бы я подал прошение об увольнении в настоящую минуту, то это значило бы просить о милости; быть может, мне и оказали бы ее – но как решиться на просьбу, когда не имеешь на то права? Возможно, однако, что я кончу этим» (II, 10–11, письмо от 25 марта 1820 г.).
Андрей Александрович Тесля
Русские беседы
Серия очерков и заметок, представленная в этой книге, раскрывает некоторые из ключевых сюжетов русской интеллектуальной истории того времени, связанных с вопросом о месте и назначении России, то есть о ее возможном будущем, мыслимом через прошлое.
В первой книге серии основное внимание уделяется таким фигурам, как Петр Чаадаев, Николай Полевой, Иван Аксаков, Юрий Самарин, Константин Победоносцев, Афанасий Щапов и Дмитрий Шипов. Люди разных философских и политических взглядов, разного происхождения и статуса, разной судьбы – все они прямо или заочно были и остаются участниками продолжающегося русского разговора.
Автор сборника – ведущий специалист по русской общественной мысли XIX века, старший научный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных наук БФУ им. Канта (Калининград), кандидат философских наук Андрей Александрович Тесля.
Андрей Тесля
Русские беседы: лица и ситуации
Рецензенты: главный редактор журнала «Полития», профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор политических наук С. И. Каспэ; зав. Кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета, доктор философских наук, профессор Л. Е. Бляхер
Предисловие
В этот сборник вошли статьи вполне однородного содержания: все они посвящены русской интеллектуальной истории XIX – начала XX века, подавляющая их часть фокусируется на каком-либо конкретном персонаже и уже исходя из его воззрений, его интеллектуальной эволюции в той или иной степени очерчивает контекст. Моей целью не было нарисовать единую картину, дать последовательное изложение – мне представляется, что в многоаспектности, очерковости есть свои преимущества не только практического, но и теоретического плана: ведь ради последовательности изложения мы нередко обречены жертвовать непоследовательностью и разноплановостью исторической реальности. Даже если ограничиваться лишь сферой интеллектуальной истории, русский XIX век никак не может быть сведен без невосполнимых потерь к одной или даже нескольким четко прочерченным линиям развития. Они существуют, разумеется, и хорошо известны например, когда речь заходит о переходе «от романтизма к реализму» или от дворянской к разночинской культуре), но это движение не равномерно и, что важнее, не едино для разных групп и сообществ. Так, ориентируясь на литературные петербургские образцы 1840-х, не получится представить себе эстетические воззрения харьковчан тех же лет: они живут в другом времени, но дело не только в отставании – ведь при этом они сами знают об этой рассинхронизации и, следовательно, переживание ими «современности» включает и подобное знание. В других случаях, напротив, взгляды, вырастающие из дискуссий, давно вроде бы «пережитых» и «изжитых» в центре, возвращающиеся в него, оказываются новыми, производят неожиданные последствия – уже в силу того, что контекст, из которого воззрения вышли, и контекст, в который они попали, принципиально различны.
Статьи, объединенные под одной обложкой, писались на протяжении нескольких последних лет – за это время представления самого автора успели измениться. Мне кажется, что перемена эта скорее экстенсивная – но в данном случае довольно сложно адекватно судить о самом себе. Отбирая тексты, я постарался включить те, что представляются мне в настоящий момент наиболее удачными или раскрывающими те аспекты, которые по сей день актуальны в моих глазах. Однако я решил не перерабатывать эти тексты, за исключением незначительной правки оставив их в том виде, в каком они были в свое время опубликованы или подготовлены к печати: на мой взгляд, нет смысла редактировать один и тот же текст, добиваясь совершенства: если суждения изменились радикально, то лучше написать новый, если же нет, то стоит ограничиться уточняющим примечанием. Сознаю, что далеко не все со мной в этом согласятся, но мне лично проще написать заново, чем вновь и вновь переписывать и отшлифовывать уже сделанное: это не вопрос выбора, а вопрос склонностей – тот, кто умеет шлифовать, добьется прекрасного результата, но неспособный к этому лишь напрасно потратит время – и хорошо, если только свое.
Мне представляется, что сейчас, в условиях мира модерна, неразумно искать в прошлом готовых примеров и образцов – его роль в ином: говоря словами XIX в., «всю цену истории составляет самосознание»[1 - Победоносцев К. П. Вечная память. Воспоминания о почивших. – М.: Синодальная типография, 1896. С. 110.]. Прошлое дает нам возможность увидеть иное, дистанцироваться от настоящего – и в то же время, через осознание многообразия путей к/в современности, понять ее и свое положение в ней. Не мне судить, насколько полезны для других окажутся экскурсы в прошлое и отклики на современные рассуждения о прошлом, собранные под этой обложкой – но, надеюсь, они окажутся по меньшей мере любопытны – ведь история должна быть занимательна.
Вместо введения
О памяти, истории и интересе
До XIX в. напряжения между «историей» и «памятью» (пока оставим эти понятия без прояснения, несколько конкретизируя их дальше) не существует. «Историк» здесь (а скорее «архивариус») – специалист по памяти, тот, кто помнит и ведает больше, чем остальные, и чья память может оказаться как полезной, в виде припоминания чего-то ситуативно актуального, уместного – вспоминания какого-нибудь обстоятельства времен прошедших, подходящего в качестве аргумента для споров сегодняшнего дня, либо, равным образом, вредной – когда те же обстоятельства лучше забыть или оставить не-вспомненными (как, например, для остроумцев и спорщиков XVIII в. хорошее знакомство со святоотеческими писаниями было эффектным орудием в дебатах с их оппонентами, нарушая монополию памяти (и забвения) «клерикалов» – или, и ранее и позже, споры между «галликанами» и «ультрамонтанами» были во многом состязанием в «неудобных припоминаниях» прецедентов прошлого, упорно не укладывавшихся ни в одну последовательную теоретико-юридическую конструкцию).
«История» здесь существует не для того, чтобы помнить о разрыве, а дабы воссоздавать связь, выстраивать преемственность, в том числе обуславливая эффект «неизменности памяти» – представления о том, что памятуемое остается одним и тем же. Это не только и даже не столько механизм «забвения», сколько устройство, делающее невозможным сам вопрос о «забытом» в точках напряжения: забытым оказывается сам акт забвения, поскольку нет «шва», обозначающего целенаправленное забвение (в отличие от ситуации, когда мы не можем, например, восстановить биографию лица, поскольку документы из его дела были уничтожены: пустота архивного дела, акт изъятия и уничтожения или менее явные следы остаются знаками «отсутствующего прошлого», создают «негативную память», память о самом акте забвения).
Историк, условно говоря, после Ранке, открывшего архив, не специалист (или, во всяком случае, не только специалист) по памяти, но тот, кто открывает отсутствующее в памяти. Эта разница очевидна в первые десятилетия XIX в. Для одних история встроена в прежнюю логику: новый историк рассказывает то, что рассказывали его предшественники, рассказывает так, чтобы это было понятно и интересно его современникам (история ведь еще остается родом «изящной словесности»), рассказывает «памятуемое», переводя из одной формы памяти в другую (из архива, из библиотеки – в рассказ). Так, замечательный польский историк Самуил Брандтке в 1820 г. передавал в своей «Истории государства польского» легендарные предания о первых польских королях не потому, что считал их достоверными (совсем напротив, прямо помещая их в разряд «легенд»), и не потому, что считал их древними (оговаривая позднее происхождение): он рассказывает об этом, поскольку об этом рассказывали его предшественники, это входит в «общую память» и он здесь – еще один, крайний на этот момент, участник в цепочке передающих предание.
Для других же историк – не тот, кто сохраняет, воспроизводит буквально или пересказывает документ, но, используя язык принуждения, характерный в данном случае, «допрашивает» его, дабы узнать, о чем документ молчит, что в нем содержится неявным образом. Следовательно, его надлежит не «помнить», а с ним необходимо работать – это не память, а работа с памятью (ее при желании можно уподобить работе с воспоминаниями в психоанализе, впрочем, вряд ли аналогия может остаться достаточно точной уже на втором шаге).
Прошлое при этом – принципиально едино; соответственно, единой надлежит быть и памяти о нем, и истории, которая (уже в своем новом, научном статусе) должна обеспечить «правильное памятование». Иными словами, история – инстанция, контролирующая память, что верно как для Хальбвакса, так и для Нора, причем, если первый не обеспокоен потенциальной разрушительностью истории для разных уровней памяти (ведь «история» обладает статусом «науки» и, следовательно, говорит от имени «истины»), то для второго разрушительность истории по отношению к «национальной памяти» допустима, поскольку больше нет нужды в ее сохранении, сообщество (политическое, культурное и т. д.) поддерживается другими средствами, поэтому оказывается возможна работа истории над национальной памятью и ее деконструкция.
Проблемы, которые здесь выходят на поверхность, связаны не с множественностью памятей, но с единством истории. Множественность памятей не составляет проблемы, например, для традиционного или раннемодерного европейского общества, поскольку это память разных групп и сообществ, в том числе и тех, к которым принадлежит индивид (единство его памяти утверждается в довольно ограниченном объеме – требуемом исповедью, где выстраивается «личность» и возникает отграничение «интимного» от «частного», как противостоящего «публичному») и которые, зачастую, на своем уровне также воспроизводят сосуществование «коммуникативной» и «культурной» памяти, начиная от семьи, материально фиксирующей память на последних листах Библии (напр., в голландском семействе XVII в.) или псалтыри, в семейных иконах и т. д. (как ярославские купцы XVIII в.) и до цеха или масонской ложи со своими реестрами и архивами. «Большие нарративы» не столько конкурируют, сколько сосуществуют друг с другом – формируемые духовенством (в виде непрерывности священной истории, переходящей в историю церкви, чтобы завершиться апокалипсисом) и светской администрацией (выстраивающей последовательность по образцу галереи, как это впервые подробно рассмотрел Арьес: последовательность персон, портретов, каталога и биографий образует цепь «мест памяти», которая затем перейдет, например, от «Царского титулярника» к суворинским и сытинским брошюрам). Однако между ними редок конфликт – уже в силу того, что каждая из этих «памятей» принадлежит своему сообществу и «припоминается» применительно к нему.
Конфликты, которые станут центральными в последнее столетие – не только вокруг национальных/ политических «памятей», а во многом и не столько из-за давления «единой памяти», «национальной», сколько из-за того, что других «памятей» становится меньше и/или они оказываются зримо разрушающимися, поскольку исчезают или ослабевают те группы, которые могли поддерживать многоформационную память. В результате индивид оказывается в ситуации, когда обладает лишь личной и политической памятью, со слабыми, неустойчивыми и мерцающими памятями между ними – индивидуальную память необходимо, оказывается, «крепить» в «большой памяти», как описывает тот же Хальбвакс в своем известном эссе с зачином о детском воспоминании парада (точнее, о своем воспоминании виденного в детстве).
Тем самым меняется и позиция историка – если ранее он собирал «единую историю», выправлял «память», делая ее управляемой, осуществляя над нею контроль, прореживая множественность разбегающихся «памятей» и осуществляя работу с воспоминаниями, чтобы сформировать единую реконструкцию (способ упорядочивания мог быть различным, но принципиально иерархичным), то теперь он вновь оборачивается специалистом памятования, а не только специалистом по памяти (в том числе и потому, что сама потребность в памяти оказывается все больше под вопросом, по крайней мере относительно прежнего объема памятуемого не посредством накопительной памяти – такое впечатление, что рост последней освобождает от необходимости удерживать объем других формаций памяти). При этом обращенность к собственному положению, собственному «памятованию» как источнику/импульсу своей деятельности (собственному на разных уровнях – от индивида до тех групп и сообществ, в которые он входит и с которыми себя соотносит) задает новый интерес – удержание множественности «памятей» как неиерархизируемых без остатка (или, по крайней мере, не включаемых лишь в одну иерархию), т. е. вновь делает историю сознающим себя «искусством памяти».
Часть 1
Дворянские споры
1. Неизменность Чаадаева
Чаадаев был умен, остер на язык и саркастичен; он был недоволен почти всем, что делалось вокруг него; он держался независимо и жил вне службы; наконец, он был друг декабристов и опального Пушкина и за его статью был закрыт журнал. Таких данных, пожалуй, и теперь было бы достаточно, чтобы составить человеку репутацию либерала.
М. О. Гершензон, 1908 г.
Московский старожил
Когда 14 апреля 1856 г. о флигеле дома на Новой Басманной, который он занимал более двух десятилетий, скончался Петр Яковлевич Чаадаев, «Московские ведомости» напечатали следующее объявление:
«Скончался один из московских старожилов, известный во всех кружках столицы».
Затруднение редактора в подыскании слов для определения покойного не сложно понять: Чаадаев был одной из московских знаменитостей, но в то же время не обладал ни чинами, ни каким-либо официальным положением, которое можно было упомянуть в некрологе; некогда будучи состоятелен – к концу жизни едва имел чем жить, да и то скорее по доброте людей, его окружавших. Даже литератором назвать его было невозможно – ведь при жизни были опубликованы всего две его статьи, причем первая – размером в четыре страницы, а вторая, которую в сравнении с первой можно назвать обширной, уместилась менее чем на полусотне страниц совсем небольшого формата.
Чаадаева знала вся Москва – т. е. все те, кого называли «хорошим обществом», но за пределами этого круга его известность сводилась к скандальной истории публикации «Философического письма к даме» и высочайшему объявлению сумасшедшим. Впрочем, и салонная известность Чаадаева во многом покоилась на тех же основаниях – он был интересен, необычен, об идеях его судили превратно, сводя до нескольких реплик, как то обычно и бывает, основания которых легко найти в его собственных текстах, но которые от повторения и не очень задумывающейся интерпретации уходили все дальше от исходного содержания.
Уже при жизни, а в особенности в ближайшее десятилетие после смерти, возобладали два основных способа понимать взгляды Чаадаева. Для одних, в первую очередь для Герцена, еще при жизни Чаадаева успевшего написать о нем в своем заграничном, обращенном европейской аудитории памфлете «О развитии революционных идей в России» (1851), он вошел в длинный перечень борцов за свободу – между декабристами и самим Герценом:
«[…] письмо разбило лед после 14 декабря. Наконец пришел человек, с душой, переполненной скорбью; он нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что за десять лет накопилось горького в сердце образованного русского. Письмо это было завещанием человека, отрекающегося от своих прав не из любви к своим наследникам, но из отвращения; сурово и холодно требует автор от России отчета во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния. […] Да, этот мрачный голос зазвучал лишь затем, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что она представляет собой «лишь пробел в человеческом сознании, лишь поучительный пример для Европы». Он сказал России, что прошлое ее было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у нее нет»[2 - Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Собрание сочинений. В 30 т. Т. VII. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 221–222.].
Если для Герцена религиозное содержание идей Чаадаева объяснялось как следствие места и времени, нечто, что скрывает совсем иное содержание – скрывает в том числе и от самого автора, то для круга «русских католиков» именно оно предсказуемо стало основным. Чаадаев в интерпретации о. Ивана Гагарина (издавшего в 1862 г. в Париже по копиям, предоставленным М. И. Жихаревым первое собрание сочинений Чаадаева, на полвека ставшее основным источником для тех, кто не желал ограничиваться краткими сведениями из вторых и третьих рук) стал представителем католической идеи в России – более того, тем, кто осмелился не только признать правоту католичества, но и гласно заявить об этом в момент утверждения православия в качестве первого члена национальной триады.
Следует отметить, что каждая из этих интерпретаций не была лишена оснований – они не были заблуждением, но в то же время рисовали облик совсем иного лица, не совпадающий с Чаадаевым. Помещая Чаадаева в контекст «развития революционных идей», Герцен и его последователи предлагали счесть религиозное основание его мысли – исторической подробностью, но при таком подходе речь шла уже не о Чаадаеве, а об общественном значении его идей, несмотря или вопреки тому, что имел в виду и стремился сказать сам автор. В логике «русского католичества» затруднение было еще более примечательным – Чаадаев сам не перешел в католичество, т. е. либо между его словами и его делами образовывался разрыв, либо же его слова были поняты не вполне, если предположить, что Чаадаев был достаточно последователен хотя бы в том, что объявлял важнейшим.
Жизнь Чаадаева в глазах публики вся сфокусировалась вокруг событий нескольких последних месяцев 1836 г., когда в не очень популярном, сравнительно мало читаемом московском журнале «Телескоп» вышла его статья: «это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно, надобно было проснуться»[3 - Герцен А. И. Былое и думы: Части 4–5 / Коммент. Г. Г. Елизаветиной. – М.: Художественная литература, 1982. С. 111.]. До этого времени о нем знали не очень много – после этого о Чаадаеве в основном знали только эту историю.
Петр Яковлевич Чаадаев был вторым (и последним) ребенком в семействе Якова Петровича Чаадаева и Натальи Михайловны, урожденной княжны Щербатовой, так что Михаил Михайлович Щербатов, депутат Уложенной комиссии и автор «Истории Российской»[4 - А также знаменитого памфлета «О повреждении нравов в России», который впервые опубликует уже после смерти внука автора Герцен (1858) в своей лондонской типографии, в одном томе с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева.], приходился Петру Яковлевичу дедом. Родившись 27 мая 1794 г., Чаадаев уже не застал кн. Щербатова, скончавшегося четырьмя годами ранее – впрочем, и родителей своих ему запомнить не довелось: отец умер в следующем году, а еще два года спустя скончалась и матушка, так что воспитание двух братьев (Михаил родился в 1792 г.) взяла на себя тетушка, Анна Михайловна Щербатова, и дядя, Дмитрий Михайлович Щербатов.
По словам М. И. Жихарева, наиболее близкого к Чаадаеву в последний период его жизни человека, тетушка, получив известие о смерти своей сестры, «в самое неблагоприятное время года[5 - Наталья Михайловна Чаадаева скончалась 8 марта 1797 г.], весною, в половодье, не теряя ни минуты отправилась за ними, с опасностью для жизни переправлялась через две разлившиеся реки – Волгу и какую-то другую, находившуюся по дороге, добралась до места, взяла малюток, привезла в Москву, где и поместила вместе с собой, в небольшом своем домике, бывшем где-то около Арбата»[6 - Жихарев М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи (Мемуары современников) / Под ред. И. А. Федосова; вступ. ст. Н. И. Цимбаева. – М.: Изд-во МГУ, 1989. С. 51.]. Тетушке было суждено дожить до 1852 г. и скончаться в глубокой старости (родилась она в 1761 г.), непрестанно заботясь (как умея – была она женщиной доброй, но простой) о своих племянниках, из которых старший, Михаил, непременно отвечал на это со своей стороны почтительными письмами. В 1834 г. она, например, писала последнему:
«Благодарю Всевышнего, что избрал меня служить вам матерью в вашем детстве, и в вас нахожу не племянников, но любезных сыновей; ваше благорасположение доказывает мне вашу дружбу, но и я, будьте уверены, что я вас люблю паче всего; нет для меня ничего любезнее вас, и тогда только себя счастливою нахожу, когда могу делить время с вами»[7 - Цит. по: Гершензон М.О. П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление // Избранное. В 4 т. Т. 1: Мудрость Пушкина / Сост. С. Я. Левит, коммент. Е. Ю. Литвин, В. Ю. Проскурина. – М.; Иерусалим: Университетская книга, Gesharim, 2000. С. 384.].
Состояние досталось им от родителей более чем достаточное – около одного миллиона рублей на двоих, воспитание они получали сперва домашнее, а затем в 1808 г. поступили в Московский университет, где их сотоварищами сделались А. С. Грибоедов, Д. А. Облеухов, братья Л. и В. Перовские, И. М. Снегирев, Н. И. Тургенев, И. Д. Якушкин.
Для этого времени и этой среды дружба значила очень много – отношения, обретенные в юности, продолжались всю жизнь[8 - См.: Жихарев М. И. Указ. соч. С. 58, 66.]. Так, после приговора по делу декабристов, по которому Якушкин за умысел на цареубийство был приговорен к смертной казни, замененной каторгой, Чаадаев навещает его семью, как и брат Михаил, и затем, по мере того как сыновья Якушкина, Вячеслав (1823 г. р.) и Евгений (1826 г. р.), подрастали, охотно принимал их на Басманной, а уже после смерти Чаадаева Евгений Якушкин собирал материалы о нем, сожалея, что не успел записать устные воспоминания Петра Яковлевича, опубликовал в «Библиографических записках» (1861, № 1) ряд его писем и способствовал изысканиям о Чаадаеве М. Н. Лонгинова, близкого в то время к нему библиографа и библиофила[9 - См.: Равич Л. М. Евгений Иванович Якушкин (1826–1905). – Л.: Наука, 1989. 61–70.].
На исходе весны 1812 г. он вместе с братом зачисляется подпрапорщиком в гвардию, в Семеновский полк, и проходит кампанию 1812 г., а затем Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг., снискав дружбу сослуживцев и уважение старших. По окончании походов и возвращении из Франции переводится (теперь уже один, без брата, продолжившего службу в Семеновском) в лейб-гвардии гусарский полк, расквартированный в Царском Селе – там, в императорской резиденции, он часто бывает в доме Н. М. Карамзина, где в июне или июле 1816 г. знакомится с А. С. Пушкиным[10 - Дружбой с ним он будет в особенности гордиться в старости – публикация в 1854 г. в «Московских ведомостях» (№№ 71, 117, 119) «Материалов для […] биографии» Пушкина, составленных П. И. Бартеневым [см. переиздание: Бартенев П. И. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников / Сост., вступ. ст. и примеч. А. М. Гордина. – М.: Советская Россия, 1992], в которых он не будет упомянут, вызовет крайнее раздражение со стороны Чаадаева, писавшего С. П. Шевыреву: «Вы, конечно, заметили, что, описывая молодость Пушкина и года, проведенные им в Лицее, автор статей ни слова не упоминает обо мне, хотя в то же время и выписывает несколько стихов из его мне послания и даже намекает на известное приключение в его жизни, в котором я имел участие, но приписывая это участие исключительно другому лицу. Признаюсь, это умышленное забвение отношений моих к Пушкину глубоко тронуло меня. Давно ли его не стало, и вот как правдолюбивое потомство в угодность к своим взглядам хранит предания о нем! Пушкин гордился моею дружбою; он говорил, что я спас от гибели его и его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому, а г. Бартеньев находит, что до этого никому нет дела, полагая, вероятно, что обращенное потомство, вместо стихов Пушкина, будет читать его Материалы» (II, 272–273). [Здесь и далее все ссылки на издание: Чаадаев П. Я. (1991) Полное собрание сочинений и избранные письма. В 2 т. / Отв. ред. З. А. Каменский. – М.: Наука, 1991. – даются в тексте, римская цифра указывает номер тома, арабская – номер страницы.]].
Карьера Чаадаева идет успешно – на исходе 1817 г. он назначается адъютантом гр. И. В. Васильчикову, одному из самых близких к императору Александру I лиц, и, с общей точки зрения, может рассчитывать на быстрое дальнейшее повышение, будучи лицом известным и ценимым высшими чинами империи. Но его собственные планы лежат в иной области – брат его уже ранней весной 1820 г. выходит в отставку и поселяется в Москве, а сам Чаадаев подает прошение об отставке на исходе декабря того же года и получает ее в феврале 1821 г.
Столь неожиданный при свете внешних обстоятельств поступок обрастает массой слухов и предположений, Ф. Ф. Вигель расскажет, что отставка выйдет из неудовольствия государя на опоздание Чаадаева с известием о восстании в Семеновском полку:
«[…] гусар и доктор философии в отношении к наряду был вместе с тем и совершенная кокетка: по часам просиживал он за туалетом, чистил рот, ногти, протирался, мылся, холился, прыскался духами. Дорогой он предавался тем же упражнениям и оттого с прибытием опоздал двумя сутками»[11 - Вигель Ф. Ф. Записки. В 2 кн. Кн. 2. – М.: Захаров, 2003. С. 982.].
Ту же историю в сокращенном виде повторит, например, хороший московский знакомый Чаадаева более поздних лет М. А. Дмитриев[12 - Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни / Подгот. текста и примеч. К. Г. Боленко, Е. Э. Ляминой и Т. Ф. Нешумовой; вступ. ст. К. Г. Боленко и Е. Э. Ляминой. – М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 365.] и знавший Чаадаева большую часть его жизни Д. Н. Свербеев[13 - Свербеев Д. Н. Мои записки / Изд. подгот. М.В. Батищев, Т. В. Медведева; отв. ред. С. О. Шмидт. – М.: Наука, 2014. С. 519–520.]. История эта, однако, прямо противоречит достоверно известным фактам, и предложить свою версию происшедшего попытался уже М. И. Жихарев (вынужденный, впрочем, строить лишь гипотезы, поскольку сам Чаадаев всегда отказывался говорить на этот счет). Согласно Жихареву, Чаадаев поддался тщеславному чувству, отправившись с донесением, однако затем был вынужден осознать, что является вестником и одним из орудий кары, которая должна постигнуть его бывших сослуживцев по Семеновскому полку, – получить ближайшее почетное назначение, флигель-адъютантство, значило бы получить награду за предательство.
Оказавшись в тупике, Чаадаев по размышлению и избрал отставку, оставляющую его совесть и, что гораздо важнее, его честь чистыми[14 - См.: Жихарев М. И. Указ. соч. С. 71–80.]. Но и эта трактовка была оспорена с большим набором аргументов М. О. Гершензоном, отметившим, что происшедшее не повлияло на репутацию Чаадаева среди друзей и знакомых, сослуживцев по Семеновскому полку и по гвардии в целом – никак не отозвавшись в переписке, никогда не упоминаясь: никто не думал ставить ему поездку с официальным донесением от его начальника, гр. Васильчикова к государю, в вину[15 - См.: Гершензон М. О. Указ. соч. С. 389–391.]. Еще одну версию предложил сравнительно недавно Ю. М. Лотман, полагавший, что Чаадаев в своем поступке ориентировался на литературный образец – маркиза Позу, отставка была обращена именно к государю как адресату, демонстрируя бескорыстие и тем самым давая право высказывать свое суждение и вес высказываемому[16 - См.: Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). – СПб.: Искусство-СПБ, 1994. С. 346–352.].
Вопреки столь изощренной версии, как последняя, видимо, стоит согласиться с М. О. Гершензоном, искавшим истоки решения в религиозном кризисе, переживаемом Чаадаевым. Об отставке он начинает писать гораздо раньше событий в Семеновском полку – извещая брата, что прошение его удовлетворено, он говорит:
«Итак, ты свободен, весьма завидую твоей судьбе и воистину желаю только одного: возможно скорее оказаться в том же положении. Если бы я подал прошение об увольнении в настоящую минуту, то это значило бы просить о милости; быть может, мне и оказали бы ее – но как решиться на просьбу, когда не имеешь на то права? Возможно, однако, что я кончу этим» (II, 10–11, письмо от 25 марта 1820 г.).