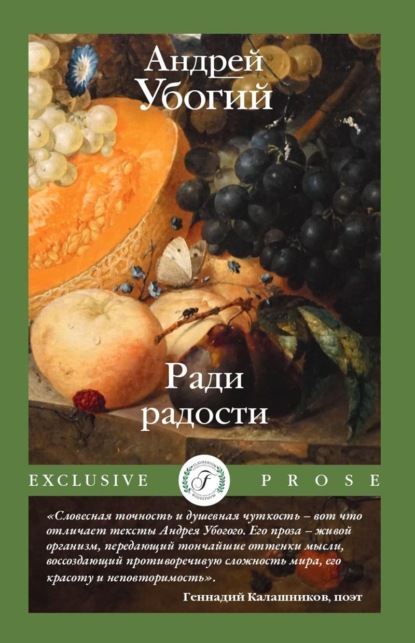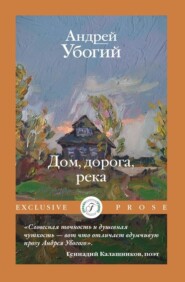По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ради радости
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ничего, – сказал я, вспомнив, что вчера мы ужинали последнею горстью изюма.
И тут стало ясно, что в этом тревожном ознобе, который с вечера не давал нам покоя, виновен не только весь этот северный стылый простор, но и просто-напросто голод.
– Лёш, пока ты разводишь огонь, я схожу в магазин, – сказал я товарищу и зашагал в город.
Минут через десять ходьбы я стоял перед прилавком и спрашивал у круглолицей молоденькой продавщицы:
– Мне бы самых дешёвых конфет. Есть у вас что-нибудь вроде батончиков?
– Дешёвых батончиков? – переспросила девушка и ненадолго задумалась, а потом улыбнулась: – Да, есть! Называется «Задавака».
– Как-как? – удивился я.
– «Задавака»! – И девушка засмеялась так радостно, так хорошо, что у меня даже заныло в груди. – Вам сколько взвесить?
– Ну, граммов триста…
Скоро я вышел, неся «Задаваку» в кармане и всё ещё улыбаясь. Как же мало, думал я, нужно для счастья, если всего-навсего смех милой девушки, которую я больше никогда не увижу, способен настолько переменить отношение к миру. Да, возвращался я в порт совершенно другим человеком. Всё вокруг было мне интересно: и основательные дома, их резные наличники и палисады, и непривычные деревянные тротуары, скрипуче пружинящие под сапогами, и дощатые будки для лодок почти возле каждого дома.
Когда я вернулся, чай был готов. Мы с другом уселись на брёвнышко, лицом к морю, чья светло-серая полоса поблёскивала на горизонте, и начали неторопливое чаепитие. С каждым терпким глотком и с каждым соевым сладким батончиком, съеденным нами, что-то в душе размягчалось, теплело; даже в ветре, что продолжал тянуть по-над берегом, что-то словно смягчилось. Он казался не так уже зол и не так равнодушен: хотелось не отворачиваться от него, как давеча, а, напротив, подставить лицо его упругим потягам.
И снова я думал о том, что вот сущая мелочь – батончик из сои, да ещё так смешно называвшийся, – а как помогает нам жить… Горсть этих мягких конфет в тёмно-красных обёртках, что я высыпал рядом с уже догоравшим костром, она и сама была словно костёр, согревающий нас. Одну «Задаваку» мы бросили рыжей собаке, крутившейся возле нашего лагеря, и она, сразу признав нас за хозяев, легла охранять нашу палатку.
Как раз начинался прилив. Вода реки забурлила и потекла вспять. С каждым плеском волна наступала на илистый берег, и скоро река поднялась до прибрежного ивняка. Отмели и острова утонули, и больше ничто не мешало взгляду скользить к горизонту.
Наконец затарахтела моторка, и Пётр Моисеевич, с которым мы познакомились накануне, помахал нам из лодки рукой, мол, пора собираться. Уложились мы быстро, и скоро «Казанка», шлёпая плоским днищем о воду, потащила нас в море. Пётр Моисеевич, несмотря на библейское отчество, по виду был настоящий помор, коренастый и немногословный.
– Болтает, однако! – крикнул он нам, сильно окая, и до самого Кий-острова мы больше не слышали от него ни единого слова.
Да и что говорить: разве перекричишь посвист ветра, плеск волн о борта, крики чаек и переменное – то басовитое, то вдруг скулящее – завыванье мотора?
БОЛЬНИЧНЫЕ СУДКИ. С больничной едой я познакомился рано: не оттого, что болел, а оттого, что моя мама-доктор, когда дежурила и не могла накормить меня ужином дома, делилась со мною едой из больничных судков.
Это называлось «снимать пробу». Прежде чем раздавать больным обед или ужин, санитарка-буфетчица приносила дежурному доктору пробу еды из котлов пищеблока. До сих пор помню, как выглядели эти стопки плоских кастрюлек, поставленных одна на другую и перехваченных общей ручкой-скобой. Обычно кастрюль было три: для супа, второго, то есть котлет или гуляша, и для чая или компота.
Отчего та казённая стопка кастрюлек вызывала во мне волну нежности и умиления? Может, мы просто-напросто обречены полюбить то, с чем судьба сводит нас в раннем детстве, и первые впечатления жизни становятся незабываемы? Или и впрямь та больничная пища так уж была хороша? Но, как бы то ни было, до сих пор памятен вид и запах больничных, к примеру, котлет, гарниром к которым служило водянистое картофельное пюре. Котлеты, обвалянные в сухарях – да и состоявшие, как я теперь понимаю, в основном тоже из хлеба, – так упоительно пахли и так сочились янтарным жиром, что их было жаль рвать казённою вилкой, из четырёх зубьев которой один был обломан, а три оставшихся торчали в разные стороны. Но и котлеты, и вилка были те самые, какие должны были быть, как и чашка с отбитою ручкой, и тарелка с сиротскою синей каймой и с непременным овальным клеймом «Общепит».
А картофельное пюре? Тогда, ещё в раннем детстве, я на всю жизнь усвоил, что настоящее картофельное пюре и должно быть таким: жидким и синеватым, с комками картофельных тёмных «глазков» и тем характерным вкусом, в котором ты различал даже привкус хлорки, которой буфетчица ополаскивала тарелки. А уж как удавалось буфетчицам одним лишь волшебным движением ложки придавать водянистой картофельной кляксе изящно волнистый рельеф, это и до сих пор для меня остаётся загадкой.
В казённой еде (в тех же самых больничных судках, что так памятны мне) содержался особый – не знаю, как это точнее назвать, – уют неуюта. Такой же уют неуюта был и во всей той эпохе, на которую выпали моё детство и юность. Общаги, вокзалы, больницы и лагеря (правда, я был знаком только с пионерскими), санатории, стройки, казармы, бараки – то есть места, где кипела общая жизнь, – были, с одной стороны, бесприютно-унылы, бесцветны, по всей стране одинаковы, и наполнял эти места общей жизни единый, казённый и сумрачный, дух. Но, с другой стороны, ты всегда чувствовал – это было каким-то подкожным, глубинным, мистическим знанием, – что именно в этих местах тебе не дадут пропасть. Если даже окажешься сир и наг, болен или несчастен, гол как сокол, то казённая и неумелая ласка огромной страны обогреет тебя, даст кров и пищу, подыщет работу: тоска, бесприютность и холод казённых пространств обернутся вдруг нежностью, даже любовью…
Вот и в той стопке больничных кастрюль, перехваченных общей ручкой-скобой, содержалась не просто еда (хоть больничную пищу с тех пор и доныне я предпочту иным деликатесам), нет, в тех кастрюльках-судках воплощалась суровая ласка-забота страны обо всех своих детях, пусть даже самых потерянных и непутёвых.
ВИШНИ. С чего начать оду вишням? Не с того ли, как ты лет уж тридцать назад сажал гибкие прутики и не верил, что из них когда-нибудь вырастут не просто деревья, а целый вишнёвый сад? И вот этот сад уже вырос – так же стремительно и незаметно, как прошла молодость, а за ней и почти вся жизнь, – и весной мы выходим смотреть на цветущие вишни.
Прекрасней всего они в сумерках, когда розовеет закат – цветом он напоминает вишнёвый компот – и на фоне заката цветущие ветви, теряя отчётливость, становятся то ли воспоминанием, то ли мечтой или грёзой – чем-то, словом, таким, что прекрасней и глубже реальности. И ещё, если вслушаться, цветущие вишни в густеющих сумерках звучат тихой музыкой. Словно кто-то невидимый там, среди белых ветвей, настраивает виолончель: её бархатистые ноты то тянутся, то обрываются, то опять начинают гудеть басовито и нежно. Это гудят внутри облака вишни майские сумеречные жуки. Приглядевшись, их можно увидеть: мохнатые шарики вьются, толкаясь о ветви и даже сбивая порой лепестки. Лепестки эти падают в твою чашку чая и на скамью, на которой ты оцепенел, не решаясь прервать равновесия редкой минуты – созерцания цветущих вишен на фоне заката…
Пропустим, пожалуй, май и июнь и вернёмся в наш сад в ту пору, как вишни созрели и время их собирать. Но почти каждый год нас опережают скворцы. Когда их стая, издавая жужжащие свисты, влетает в густую вишнёвую крону, то кажется, по ветвям и по листьям прошлась волна свежего летнего ливня. Лиственный купол вдруг наполняется щебетом, шумом и дрожью, а на землю срываются алые капли расклёванных птицами ягод. Такие, побитые клювами вишни вкуснее всего. Подберёшь пару ягод с земли – пальцы тут же окрасятся ярко-вишнёвою кровью, – с наслажденьем раздавишь о нёбо их сочную винную мякоть и будешь долго мусолить во рту две вишнёвые косточки, словно и нет у тебя дел важнее и интереснее, чем это катание косточек на языке.
Скворцы обирают не всё, кое-что остаётся и нам. Стремянку мы так и не завели, поэтому собираем вишни, кто как горазд: и с забора, и с табурета, и с развилок стволов. До сих пор пальцы помнят сопротивление ветки, которую пригибаешь к себе: глянцевитые листья шуршат по лицу, вишни качаются перед глазами – иную из ягод рвёшь прямо ртом, – и ты вдруг на секунду-другую ощущаешь себя частью этого дерева, как бы одной из ветвей, напряжённо несущих груз листьев и ягод.
Когда вишни собраны, лето уже перешло за зенит, и настают дни варенья. И вот тут я должен описывать, как под деревьями сада, в латунном иль медном тазу, поднимается розовой пеной варенье; описание это для русской литературы ещё неотвратимее, чем знаменитая рифма «морозы-розы». Но я, хоть убей, не могу точно припомнить: а я-то сам видел такую картину? Или я только воображал её, или, пуще того, только вычитал из чужих описаний?
Иногда кажется, что всё-таки видел – в раннем детстве, в саду одной из двух бабушек, Марии Павловны или Марии Денисовны. А потом опять сомневаюсь: да нет, всё же вряд ли, наверное, я себе это надумал…
Но откуда ж тогда вижу я жёлтый латунный таз – он такого же цвета, как примус, который гудит под ним напряжённо и туго, – вижу розовый венчик пены по краю варенья, пыхтящего алыми пузырями, и чувствую даже тот запах: сладкий, с миндальным привкусом косточек, запах варенья из вишен?
И вообще, откуда приходит к нам то, что мы знаем и любим, откуда приходят слова, мысли, образы? Из нас ли самих или из того мира, что нас окружает? Или из каких-то нездешних пространств, где как раз и хранится всё то, что и было, и будет, и откуда возник, может быть, этот именно таз с пузырящейся пеной варенья?..
ВОЗМОЖНОСТЬ ЧАШКИ ЧАЯ. Вот сижу на осеннем балконе, попиваю дымящийся чай, смотрю на сады и на крыши, на рыжую линию дальнего леса, на небо, уже поменявшее розовый утренний свет на дневной, голубой, и думаю: а ведь то, что в руках у меня чашка чая, которую я могу пить, никуда не спеша, ведь это же настоящее чудо! Сколько всего должно было сойтись и совпасть, случиться – или, наоборот, не случиться, – уравновесить друг друга, поймать миг гармонии в этом негармоничном, куда-то всё время несущемся, мире, чтоб я неспешно сейчас поднимал эту синюю чашку, подносил бы к губам, ощущал во рту терпкую горечь, а после смотрел бы сквозь марево чайного пара на зубчатую, рыжую линию дальнего леса…
Во-первых, должно быть всё более-менее ладно в семье и во всём нашем доме. Родители, дети, жена должны быть здоровы, никакие серьёзные неполадки и ссоры не должны омрачать нашу жизнь, соседи должны быть дружелюбны, а такие спокойные дни, как вы понимаете, выпадают не так уж и часто. Во-вторых, там, где я работаю, не должно оставаться тяжёлых, неясных больных, да ещё, не дай Бог, с осложнениями после моих операций. Какое уж там спокойное чаепитие, когда мысли всё время в больнице?
Но, допустим, в семье и в больнице наступило временное затишье. А всё ли в порядке в твоём старом доме? Не засорилась ли фановая система, не завоздушился ли отопительный контур, не капает ли с потолка конденсат, не прохудились ли водопроводные трубы? А ведь дом-то давно уж немолод – он ровесник мне самому – и болеет почти так же часто, как и любой пожилой человек.
Вот ещё, кстати, помеха спокойному, неторопливому чаепитию – собственные болезни. С одной стороны, на здоровье грех жаловаться – на шестом-то десятке я ещё кое-как трепыхаюсь, – но, с другой стороны, я давно позабыл то счастливое время, когда о здоровье не думалось вовсе.
Да ладно здоровье – о нём, в конце концов, можно какое-то время не думать, – а как быть с совестью? Разве можно спокойно пить чай, наслаждаясь прозрачною ясностью осени, когда неспокоен «когтистый зверь, грызущий сердце, – совесть»? А ведь совесть-то по-настоящему никогда и не может быть ни спокойной, ни вполне чистой, потому что все мы в грехах, как собака в репьях.
Вот и получается, что возможность спокойного, неторопливо-блаженного чаепития стремится к нулю. Рассуждая логически, оно просто-напросто невозможно; а когда оно всё же случается, это и есть настоящее чудо.
Но давайте посмотрим на чайное чудо ещё и с другой стороны. Как много трудилось людей для того, чтобы чашка горячего чая дымилась сейчас перед тобой! Это и сборщицы чая где-нибудь на плантациях Индии или Цейлона, и рабочие чаеразвесочных фабрик, грузчики и водители автомобилей, это железнодорожники и продавцы магазинов и ещё множество разных людей. А те, кто построил дом и вот этот балкон, разве они не вложили свой труд в сегодняшнее чаепитие? А гончары, что слепили вот эту чудесную чашку? А те, кто стоят, так сказать, на страже чайного ритуала: полицейские и коммунальщики, энергетики и дежурные доктора, управленцы и пограничники, и разные там губернаторы или министры – словом, вся королевская рать? Как подумаешь, чуть ли не всё человечество потрудилось иль трудится в эту минуту, чтоб ты мог неспешно и благостно выпить вот эту свою чашку чая.
И как же не быть благодарными людям за то, что они подарили? Как не ценить этот дар, как не чувствовать: чашка чая, которую ты сейчас держишь в руке, есть, так сказать, фокус жизни во всех смыслах слова? И фокус, как некое чудо, которого не должно было быть, но которое всё же случилось; и фокус, как точка схождения множества сил, интересов, надежд и энергий.
Так что, когда вам захочется чуда, не стоит ходить далеко: чудеса всегда рядом. Хоть эта вот чашка с дымящимся чаем, хоть вообще всё что угодно, на что только упал ваш внимательный взгляд, это всё чудеса, которых, сказать откровенно, и быть не должно, но которые всё же случились внутри того главного чуда, которое называется «жизнь»…
ГОЛОДНЫЕ ПОХОДЫ. Вообще-то, мы только их так называли – «голодные», то есть без запаса еды в рюкзаках, – а на самом-то деле редко когда удавалось поесть с таким наслаждением, как в этих самых «голодных» походах.
В них еду воспринимаешь особо, как милость, которою нас одарила дорога. Что бы ни подвернулось – гроздь ли горькой рябины, куст спелой смородины или калины, молодой кукурузный початок, земляничная россыпь в сосновом лесу, горсть липовых почек или сладкое корневище рогоза, – ты всему этому радуешься словно ребёнок подарку. Да и сам превращаешься, на это время в ребёнка. Ты с таким любопытством рассматриваешь, ощупываешь, нюхаешь, пробуешь очередной дар дороги на вкус, как бывало лишь в раннем детстве, когда ты познавал мир непосредственно – через его вкус, запах, форму и цвет. Это уже потом пришло время абстракций, умственно-отвлечённых понятий о мире; но абстракции порой напоминают замороженные продукты в пластиковых упаковках, те, что лежат в супермаркетах: через их целлофановый холод трудно почувствовать цвет, вкус и запах живой, настоящей еды.
В этом смысле голодный поход – это встреча с реальностью безо всяких посредников, так сказать, носом к носу. Уже ради этого – то есть освежения в себе самом чувства жизни – стоит странствовать с полупустым рюкзаком. Обычно мы брали с собой только чай да немного овса и изюма, чтобы подстраховаться на случай какой-нибудь крайней бескормицы.
Но встреча с реальностью, о которой я здесь рассуждаю, порой требует и труда, и терпенья. Разве просто поймать, а потом запечь в углях змею? Да пока нажжёшь сами угли, сойдёт семь потов. Или, шаря руками по илистой отмели, стоя по пояс в воде, собирать пресноводных перловиц или беззубок? А надирать ленты липовой заболони, потом крошить их ножом мелко-мелко – иначе не прожуёшь – и часа полтора варить суп из коры? А собирать чернику или бруснику, когда комаров вокруг столько, что ближайшие кочки, кусты, сапоги и свои распухшие руки видишь в каком-то звенящем дыму? А выдирать корневища рогоза, ощущая, как под ногами зыблется, чавкает и пускает болотные газы трясина?
Но всё равно, как бы ни было трудно, эти хлопоты по добыванию пищи были некой игрой, в которую ты играл с детским, давно уж забытым азартом. Возвращенье к ребёнку в себе было главным, что ты находил в этих самых «голодных» походах.
Не забудем и то, что вместе с движением к личному детству ты приближался и к детству всего человечества. Ведь собирание разных плодов и кореньев, моллюсков и листьев, ягод, зёрен и почек, которым ты занимался в походе, было именно тем, чем на самой заре человечества занимались и первобытные люди. Ещё прежде того, как они научились рыбачить или охотиться – или тем более возделывать землю, – они просто-напросто собирали то, что им дарил мир. Наверное, и Адам со своею лукавой подругой, когда были выдворены из Эдема, стали шарить в траве или листьях деревьев, отыскивая что-нибудь на пропитание.
Но ведь это же значит, что мы, собиратели, как бы двигаясь вспять по пути человечества и приближаясь к его, человечества, детству, становимся ближе и к раю. Нас больше не отделяют от него те препоны и стены, которые воздвигла цивилизация; собирая плоды и коренья, мы слышим дыхание райских садов, потому что живём в это время вот именно тем, что Бог дал…
ГОРОХОВЫИ СУП. Приходилось ли вам есть настоящий гороховый суп? Может статься, и нет, потому что такой суп готовят в немногих, особых местах.
Я всегда удивлялся: почему никакой из супов, что мне доводилось поесть, не шёл ни в какое сравнение с тем гороховым супом, которым меня, как дежурного доктора, кормили в больнице? Все иные супы – в том числе и гороховые, но «небольничные» – были словно бледные копии с оригинала, дышавшего жизнью и силой. Такой густоты, аромата и вкуса, как в больничном гороховом супе, нельзя было встретить нигде: ни в гостях и ни дома, ни в простецких столовых, ни в дорогих ресторанах.
Но вот как-то раз судьба занесла меня в крымский посёлок Вилино. В центре его располагалась столовая, там кормили сезонников, приезжавших на сбор винограда. И вот сижу я в полупустой столовой, попиваю вино прошлогоднего урожая и жду, когда будет готов мой любимый гороховый суп. Спешить некуда – в Крыму вообще торопиться нельзя, – и я с интересом разглядываю, как за стойкой раздачи, отделяющей залу столовой от кухни, меж огромных кастрюль неторопливо и важно проплывают грудастые поварихи. Вот одна из них сняла крышку кастрюли – взлетел, клубясь, пар – и, помешивая шумовкой, стала что-то высматривать в недрах бурлящего варева. Судя по запаху, это и был долгожданный гороховый суп. Но странно: над рыжим, бугристым, клокочущим озером супа время от времени появлялись два треугольных плавника. Можно было подумать, что в супе гоняются друг за другом акулы. «Что за диво?» – недоумевал я. И вдруг повариха, засучив рукава, ухватила сначала один, а потом и другой треугольник и, натужась, потянула их из бурлящего варева.
Я подумал, что брежу: из недр клокотавшей кастрюли, словно подлодка из океанских глубин, всплывала громадная, страшная морда свиньи! Волны супа стекали с её оскаленного рыла, оставляя кружки моркови и лука на кожистых складках, а звериные глазки смотрели пронзительно-злобно…
И тут стало ясно, что в этом тревожном ознобе, который с вечера не давал нам покоя, виновен не только весь этот северный стылый простор, но и просто-напросто голод.
– Лёш, пока ты разводишь огонь, я схожу в магазин, – сказал я товарищу и зашагал в город.
Минут через десять ходьбы я стоял перед прилавком и спрашивал у круглолицей молоденькой продавщицы:
– Мне бы самых дешёвых конфет. Есть у вас что-нибудь вроде батончиков?
– Дешёвых батончиков? – переспросила девушка и ненадолго задумалась, а потом улыбнулась: – Да, есть! Называется «Задавака».
– Как-как? – удивился я.
– «Задавака»! – И девушка засмеялась так радостно, так хорошо, что у меня даже заныло в груди. – Вам сколько взвесить?
– Ну, граммов триста…
Скоро я вышел, неся «Задаваку» в кармане и всё ещё улыбаясь. Как же мало, думал я, нужно для счастья, если всего-навсего смех милой девушки, которую я больше никогда не увижу, способен настолько переменить отношение к миру. Да, возвращался я в порт совершенно другим человеком. Всё вокруг было мне интересно: и основательные дома, их резные наличники и палисады, и непривычные деревянные тротуары, скрипуче пружинящие под сапогами, и дощатые будки для лодок почти возле каждого дома.
Когда я вернулся, чай был готов. Мы с другом уселись на брёвнышко, лицом к морю, чья светло-серая полоса поблёскивала на горизонте, и начали неторопливое чаепитие. С каждым терпким глотком и с каждым соевым сладким батончиком, съеденным нами, что-то в душе размягчалось, теплело; даже в ветре, что продолжал тянуть по-над берегом, что-то словно смягчилось. Он казался не так уже зол и не так равнодушен: хотелось не отворачиваться от него, как давеча, а, напротив, подставить лицо его упругим потягам.
И снова я думал о том, что вот сущая мелочь – батончик из сои, да ещё так смешно называвшийся, – а как помогает нам жить… Горсть этих мягких конфет в тёмно-красных обёртках, что я высыпал рядом с уже догоравшим костром, она и сама была словно костёр, согревающий нас. Одну «Задаваку» мы бросили рыжей собаке, крутившейся возле нашего лагеря, и она, сразу признав нас за хозяев, легла охранять нашу палатку.
Как раз начинался прилив. Вода реки забурлила и потекла вспять. С каждым плеском волна наступала на илистый берег, и скоро река поднялась до прибрежного ивняка. Отмели и острова утонули, и больше ничто не мешало взгляду скользить к горизонту.
Наконец затарахтела моторка, и Пётр Моисеевич, с которым мы познакомились накануне, помахал нам из лодки рукой, мол, пора собираться. Уложились мы быстро, и скоро «Казанка», шлёпая плоским днищем о воду, потащила нас в море. Пётр Моисеевич, несмотря на библейское отчество, по виду был настоящий помор, коренастый и немногословный.
– Болтает, однако! – крикнул он нам, сильно окая, и до самого Кий-острова мы больше не слышали от него ни единого слова.
Да и что говорить: разве перекричишь посвист ветра, плеск волн о борта, крики чаек и переменное – то басовитое, то вдруг скулящее – завыванье мотора?
БОЛЬНИЧНЫЕ СУДКИ. С больничной едой я познакомился рано: не оттого, что болел, а оттого, что моя мама-доктор, когда дежурила и не могла накормить меня ужином дома, делилась со мною едой из больничных судков.
Это называлось «снимать пробу». Прежде чем раздавать больным обед или ужин, санитарка-буфетчица приносила дежурному доктору пробу еды из котлов пищеблока. До сих пор помню, как выглядели эти стопки плоских кастрюлек, поставленных одна на другую и перехваченных общей ручкой-скобой. Обычно кастрюль было три: для супа, второго, то есть котлет или гуляша, и для чая или компота.
Отчего та казённая стопка кастрюлек вызывала во мне волну нежности и умиления? Может, мы просто-напросто обречены полюбить то, с чем судьба сводит нас в раннем детстве, и первые впечатления жизни становятся незабываемы? Или и впрямь та больничная пища так уж была хороша? Но, как бы то ни было, до сих пор памятен вид и запах больничных, к примеру, котлет, гарниром к которым служило водянистое картофельное пюре. Котлеты, обвалянные в сухарях – да и состоявшие, как я теперь понимаю, в основном тоже из хлеба, – так упоительно пахли и так сочились янтарным жиром, что их было жаль рвать казённою вилкой, из четырёх зубьев которой один был обломан, а три оставшихся торчали в разные стороны. Но и котлеты, и вилка были те самые, какие должны были быть, как и чашка с отбитою ручкой, и тарелка с сиротскою синей каймой и с непременным овальным клеймом «Общепит».
А картофельное пюре? Тогда, ещё в раннем детстве, я на всю жизнь усвоил, что настоящее картофельное пюре и должно быть таким: жидким и синеватым, с комками картофельных тёмных «глазков» и тем характерным вкусом, в котором ты различал даже привкус хлорки, которой буфетчица ополаскивала тарелки. А уж как удавалось буфетчицам одним лишь волшебным движением ложки придавать водянистой картофельной кляксе изящно волнистый рельеф, это и до сих пор для меня остаётся загадкой.
В казённой еде (в тех же самых больничных судках, что так памятны мне) содержался особый – не знаю, как это точнее назвать, – уют неуюта. Такой же уют неуюта был и во всей той эпохе, на которую выпали моё детство и юность. Общаги, вокзалы, больницы и лагеря (правда, я был знаком только с пионерскими), санатории, стройки, казармы, бараки – то есть места, где кипела общая жизнь, – были, с одной стороны, бесприютно-унылы, бесцветны, по всей стране одинаковы, и наполнял эти места общей жизни единый, казённый и сумрачный, дух. Но, с другой стороны, ты всегда чувствовал – это было каким-то подкожным, глубинным, мистическим знанием, – что именно в этих местах тебе не дадут пропасть. Если даже окажешься сир и наг, болен или несчастен, гол как сокол, то казённая и неумелая ласка огромной страны обогреет тебя, даст кров и пищу, подыщет работу: тоска, бесприютность и холод казённых пространств обернутся вдруг нежностью, даже любовью…
Вот и в той стопке больничных кастрюль, перехваченных общей ручкой-скобой, содержалась не просто еда (хоть больничную пищу с тех пор и доныне я предпочту иным деликатесам), нет, в тех кастрюльках-судках воплощалась суровая ласка-забота страны обо всех своих детях, пусть даже самых потерянных и непутёвых.
ВИШНИ. С чего начать оду вишням? Не с того ли, как ты лет уж тридцать назад сажал гибкие прутики и не верил, что из них когда-нибудь вырастут не просто деревья, а целый вишнёвый сад? И вот этот сад уже вырос – так же стремительно и незаметно, как прошла молодость, а за ней и почти вся жизнь, – и весной мы выходим смотреть на цветущие вишни.
Прекрасней всего они в сумерках, когда розовеет закат – цветом он напоминает вишнёвый компот – и на фоне заката цветущие ветви, теряя отчётливость, становятся то ли воспоминанием, то ли мечтой или грёзой – чем-то, словом, таким, что прекрасней и глубже реальности. И ещё, если вслушаться, цветущие вишни в густеющих сумерках звучат тихой музыкой. Словно кто-то невидимый там, среди белых ветвей, настраивает виолончель: её бархатистые ноты то тянутся, то обрываются, то опять начинают гудеть басовито и нежно. Это гудят внутри облака вишни майские сумеречные жуки. Приглядевшись, их можно увидеть: мохнатые шарики вьются, толкаясь о ветви и даже сбивая порой лепестки. Лепестки эти падают в твою чашку чая и на скамью, на которой ты оцепенел, не решаясь прервать равновесия редкой минуты – созерцания цветущих вишен на фоне заката…
Пропустим, пожалуй, май и июнь и вернёмся в наш сад в ту пору, как вишни созрели и время их собирать. Но почти каждый год нас опережают скворцы. Когда их стая, издавая жужжащие свисты, влетает в густую вишнёвую крону, то кажется, по ветвям и по листьям прошлась волна свежего летнего ливня. Лиственный купол вдруг наполняется щебетом, шумом и дрожью, а на землю срываются алые капли расклёванных птицами ягод. Такие, побитые клювами вишни вкуснее всего. Подберёшь пару ягод с земли – пальцы тут же окрасятся ярко-вишнёвою кровью, – с наслажденьем раздавишь о нёбо их сочную винную мякоть и будешь долго мусолить во рту две вишнёвые косточки, словно и нет у тебя дел важнее и интереснее, чем это катание косточек на языке.
Скворцы обирают не всё, кое-что остаётся и нам. Стремянку мы так и не завели, поэтому собираем вишни, кто как горазд: и с забора, и с табурета, и с развилок стволов. До сих пор пальцы помнят сопротивление ветки, которую пригибаешь к себе: глянцевитые листья шуршат по лицу, вишни качаются перед глазами – иную из ягод рвёшь прямо ртом, – и ты вдруг на секунду-другую ощущаешь себя частью этого дерева, как бы одной из ветвей, напряжённо несущих груз листьев и ягод.
Когда вишни собраны, лето уже перешло за зенит, и настают дни варенья. И вот тут я должен описывать, как под деревьями сада, в латунном иль медном тазу, поднимается розовой пеной варенье; описание это для русской литературы ещё неотвратимее, чем знаменитая рифма «морозы-розы». Но я, хоть убей, не могу точно припомнить: а я-то сам видел такую картину? Или я только воображал её, или, пуще того, только вычитал из чужих описаний?
Иногда кажется, что всё-таки видел – в раннем детстве, в саду одной из двух бабушек, Марии Павловны или Марии Денисовны. А потом опять сомневаюсь: да нет, всё же вряд ли, наверное, я себе это надумал…
Но откуда ж тогда вижу я жёлтый латунный таз – он такого же цвета, как примус, который гудит под ним напряжённо и туго, – вижу розовый венчик пены по краю варенья, пыхтящего алыми пузырями, и чувствую даже тот запах: сладкий, с миндальным привкусом косточек, запах варенья из вишен?
И вообще, откуда приходит к нам то, что мы знаем и любим, откуда приходят слова, мысли, образы? Из нас ли самих или из того мира, что нас окружает? Или из каких-то нездешних пространств, где как раз и хранится всё то, что и было, и будет, и откуда возник, может быть, этот именно таз с пузырящейся пеной варенья?..
ВОЗМОЖНОСТЬ ЧАШКИ ЧАЯ. Вот сижу на осеннем балконе, попиваю дымящийся чай, смотрю на сады и на крыши, на рыжую линию дальнего леса, на небо, уже поменявшее розовый утренний свет на дневной, голубой, и думаю: а ведь то, что в руках у меня чашка чая, которую я могу пить, никуда не спеша, ведь это же настоящее чудо! Сколько всего должно было сойтись и совпасть, случиться – или, наоборот, не случиться, – уравновесить друг друга, поймать миг гармонии в этом негармоничном, куда-то всё время несущемся, мире, чтоб я неспешно сейчас поднимал эту синюю чашку, подносил бы к губам, ощущал во рту терпкую горечь, а после смотрел бы сквозь марево чайного пара на зубчатую, рыжую линию дальнего леса…
Во-первых, должно быть всё более-менее ладно в семье и во всём нашем доме. Родители, дети, жена должны быть здоровы, никакие серьёзные неполадки и ссоры не должны омрачать нашу жизнь, соседи должны быть дружелюбны, а такие спокойные дни, как вы понимаете, выпадают не так уж и часто. Во-вторых, там, где я работаю, не должно оставаться тяжёлых, неясных больных, да ещё, не дай Бог, с осложнениями после моих операций. Какое уж там спокойное чаепитие, когда мысли всё время в больнице?
Но, допустим, в семье и в больнице наступило временное затишье. А всё ли в порядке в твоём старом доме? Не засорилась ли фановая система, не завоздушился ли отопительный контур, не капает ли с потолка конденсат, не прохудились ли водопроводные трубы? А ведь дом-то давно уж немолод – он ровесник мне самому – и болеет почти так же часто, как и любой пожилой человек.
Вот ещё, кстати, помеха спокойному, неторопливому чаепитию – собственные болезни. С одной стороны, на здоровье грех жаловаться – на шестом-то десятке я ещё кое-как трепыхаюсь, – но, с другой стороны, я давно позабыл то счастливое время, когда о здоровье не думалось вовсе.
Да ладно здоровье – о нём, в конце концов, можно какое-то время не думать, – а как быть с совестью? Разве можно спокойно пить чай, наслаждаясь прозрачною ясностью осени, когда неспокоен «когтистый зверь, грызущий сердце, – совесть»? А ведь совесть-то по-настоящему никогда и не может быть ни спокойной, ни вполне чистой, потому что все мы в грехах, как собака в репьях.
Вот и получается, что возможность спокойного, неторопливо-блаженного чаепития стремится к нулю. Рассуждая логически, оно просто-напросто невозможно; а когда оно всё же случается, это и есть настоящее чудо.
Но давайте посмотрим на чайное чудо ещё и с другой стороны. Как много трудилось людей для того, чтобы чашка горячего чая дымилась сейчас перед тобой! Это и сборщицы чая где-нибудь на плантациях Индии или Цейлона, и рабочие чаеразвесочных фабрик, грузчики и водители автомобилей, это железнодорожники и продавцы магазинов и ещё множество разных людей. А те, кто построил дом и вот этот балкон, разве они не вложили свой труд в сегодняшнее чаепитие? А гончары, что слепили вот эту чудесную чашку? А те, кто стоят, так сказать, на страже чайного ритуала: полицейские и коммунальщики, энергетики и дежурные доктора, управленцы и пограничники, и разные там губернаторы или министры – словом, вся королевская рать? Как подумаешь, чуть ли не всё человечество потрудилось иль трудится в эту минуту, чтоб ты мог неспешно и благостно выпить вот эту свою чашку чая.
И как же не быть благодарными людям за то, что они подарили? Как не ценить этот дар, как не чувствовать: чашка чая, которую ты сейчас держишь в руке, есть, так сказать, фокус жизни во всех смыслах слова? И фокус, как некое чудо, которого не должно было быть, но которое всё же случилось; и фокус, как точка схождения множества сил, интересов, надежд и энергий.
Так что, когда вам захочется чуда, не стоит ходить далеко: чудеса всегда рядом. Хоть эта вот чашка с дымящимся чаем, хоть вообще всё что угодно, на что только упал ваш внимательный взгляд, это всё чудеса, которых, сказать откровенно, и быть не должно, но которые всё же случились внутри того главного чуда, которое называется «жизнь»…
ГОЛОДНЫЕ ПОХОДЫ. Вообще-то, мы только их так называли – «голодные», то есть без запаса еды в рюкзаках, – а на самом-то деле редко когда удавалось поесть с таким наслаждением, как в этих самых «голодных» походах.
В них еду воспринимаешь особо, как милость, которою нас одарила дорога. Что бы ни подвернулось – гроздь ли горькой рябины, куст спелой смородины или калины, молодой кукурузный початок, земляничная россыпь в сосновом лесу, горсть липовых почек или сладкое корневище рогоза, – ты всему этому радуешься словно ребёнок подарку. Да и сам превращаешься, на это время в ребёнка. Ты с таким любопытством рассматриваешь, ощупываешь, нюхаешь, пробуешь очередной дар дороги на вкус, как бывало лишь в раннем детстве, когда ты познавал мир непосредственно – через его вкус, запах, форму и цвет. Это уже потом пришло время абстракций, умственно-отвлечённых понятий о мире; но абстракции порой напоминают замороженные продукты в пластиковых упаковках, те, что лежат в супермаркетах: через их целлофановый холод трудно почувствовать цвет, вкус и запах живой, настоящей еды.
В этом смысле голодный поход – это встреча с реальностью безо всяких посредников, так сказать, носом к носу. Уже ради этого – то есть освежения в себе самом чувства жизни – стоит странствовать с полупустым рюкзаком. Обычно мы брали с собой только чай да немного овса и изюма, чтобы подстраховаться на случай какой-нибудь крайней бескормицы.
Но встреча с реальностью, о которой я здесь рассуждаю, порой требует и труда, и терпенья. Разве просто поймать, а потом запечь в углях змею? Да пока нажжёшь сами угли, сойдёт семь потов. Или, шаря руками по илистой отмели, стоя по пояс в воде, собирать пресноводных перловиц или беззубок? А надирать ленты липовой заболони, потом крошить их ножом мелко-мелко – иначе не прожуёшь – и часа полтора варить суп из коры? А собирать чернику или бруснику, когда комаров вокруг столько, что ближайшие кочки, кусты, сапоги и свои распухшие руки видишь в каком-то звенящем дыму? А выдирать корневища рогоза, ощущая, как под ногами зыблется, чавкает и пускает болотные газы трясина?
Но всё равно, как бы ни было трудно, эти хлопоты по добыванию пищи были некой игрой, в которую ты играл с детским, давно уж забытым азартом. Возвращенье к ребёнку в себе было главным, что ты находил в этих самых «голодных» походах.
Не забудем и то, что вместе с движением к личному детству ты приближался и к детству всего человечества. Ведь собирание разных плодов и кореньев, моллюсков и листьев, ягод, зёрен и почек, которым ты занимался в походе, было именно тем, чем на самой заре человечества занимались и первобытные люди. Ещё прежде того, как они научились рыбачить или охотиться – или тем более возделывать землю, – они просто-напросто собирали то, что им дарил мир. Наверное, и Адам со своею лукавой подругой, когда были выдворены из Эдема, стали шарить в траве или листьях деревьев, отыскивая что-нибудь на пропитание.
Но ведь это же значит, что мы, собиратели, как бы двигаясь вспять по пути человечества и приближаясь к его, человечества, детству, становимся ближе и к раю. Нас больше не отделяют от него те препоны и стены, которые воздвигла цивилизация; собирая плоды и коренья, мы слышим дыхание райских садов, потому что живём в это время вот именно тем, что Бог дал…
ГОРОХОВЫИ СУП. Приходилось ли вам есть настоящий гороховый суп? Может статься, и нет, потому что такой суп готовят в немногих, особых местах.
Я всегда удивлялся: почему никакой из супов, что мне доводилось поесть, не шёл ни в какое сравнение с тем гороховым супом, которым меня, как дежурного доктора, кормили в больнице? Все иные супы – в том числе и гороховые, но «небольничные» – были словно бледные копии с оригинала, дышавшего жизнью и силой. Такой густоты, аромата и вкуса, как в больничном гороховом супе, нельзя было встретить нигде: ни в гостях и ни дома, ни в простецких столовых, ни в дорогих ресторанах.
Но вот как-то раз судьба занесла меня в крымский посёлок Вилино. В центре его располагалась столовая, там кормили сезонников, приезжавших на сбор винограда. И вот сижу я в полупустой столовой, попиваю вино прошлогоднего урожая и жду, когда будет готов мой любимый гороховый суп. Спешить некуда – в Крыму вообще торопиться нельзя, – и я с интересом разглядываю, как за стойкой раздачи, отделяющей залу столовой от кухни, меж огромных кастрюль неторопливо и важно проплывают грудастые поварихи. Вот одна из них сняла крышку кастрюли – взлетел, клубясь, пар – и, помешивая шумовкой, стала что-то высматривать в недрах бурлящего варева. Судя по запаху, это и был долгожданный гороховый суп. Но странно: над рыжим, бугристым, клокочущим озером супа время от времени появлялись два треугольных плавника. Можно было подумать, что в супе гоняются друг за другом акулы. «Что за диво?» – недоумевал я. И вдруг повариха, засучив рукава, ухватила сначала один, а потом и другой треугольник и, натужась, потянула их из бурлящего варева.
Я подумал, что брежу: из недр клокотавшей кастрюли, словно подлодка из океанских глубин, всплывала громадная, страшная морда свиньи! Волны супа стекали с её оскаленного рыла, оставляя кружки моркови и лука на кожистых складках, а звериные глазки смотрели пронзительно-злобно…